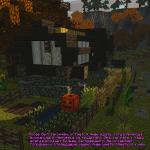- Сообщения
- 56
- Реакции
- 53
Эта история поведает вам о душегубе с горячим сердцем. О загубленной судьбе невинных людей. О людских делах за которую всегда берётся плата.
Она началась в далёких хакмаррских землях, что ныне зовутся Скверноземьем, среди широких золотистых полей и зелёных пастбищ заполненных скотом. Дивный то край, усеянный златом и благом, но закованный в кандалы бесчестных владык и бородачей гротов. Именно там, в Скверноземье, в маленькой хатке в отдалённом хуторе и начинается этот рассказ о человеке без души.


Богун с момента своего паскудного рождения был хлопцем необычным. Так сталось, что родители его, батрак батько и беременная матушка, везли на волах продавать товар своего небольшого промысла : молоко, колбасы, зерно да рыбу, шкуры и меха. Во время поездки у матери Богуна отошли воды, ясно было – рожает, а до ближайшего города не доехать, не успеть. Отец отогнал воз с дороги и постелил жене под кустами калины, роды были тяжелыми и землю беспрерывно заливала кровь, цветом как ягоды кустов стоящих рядом. Благо, что мать хакмаррца была женщиной сильной и удалой, крепкой и широкой в бёдрах, а потому роды прошли тяжело но удачно как для нее, так и для малыша. Мальчишка родился «в рубашке», таких как он считали удачливыми, но нечистыми, переношенными.
«Ой… лихо послало, лихо…» -, шептала уставшая мать, а батько лишь молча накручивал ус, рассматривая мальчишку в «мешке»…

Детство в широком хакмаррском степу не взращивает слабохарактерных, дети оных мест крепки как кремень и вольны как ветер. Богун, можно сказать, был даже слишком вольным, а слушал лишь старого отца и его батог. Носило первенца от хаты к хате да от хутора к хутору, непокорный и неугомонный был его характер, будто бы бурный костёр горел внутри, куда веет дядьком ветром – туда и вогонь. И хоть за такой непокладистый и гоноровый нрав Богун быстро завоевал уважение и лидерство среди остальных сверстников, но истинным товарищем считал себе лишь коня, ездой на котором был обучен почти с пелёнок, что впрочем скорее норма для здешнего края, а отого самого коня звали Сивко и был он другом правдой верой служащим, но нравом хозяину не уступающим, может потому так и любил его пятнадцатилетний хакмаррец. И вот потянуло горячее богуново серденько одной из ночей на забавы и оседлав своего серого коня поехал он в соседний хутор, улизнув от пристального взора закрытых очей своего спящего батька. Да и понёс Сивко вдаль хозяина, чьи мысли в тот момент витали лишь о прекрасной пановой дочке, Агнессе. Ох, девушка белокура и бледнолица, а губы красны будто кровь, а глаза – мутные и томные будто болото при её желании и смехе вспыхивали так ярко, что самому хотелось в них утонуть. Вот и Богуну хотелось да и среди всех парней на округу лишь у такого как он хватало глупости и безрассудства глядеть на Агнессу как барану на крашенные ворота. Панова дочка была из семьи благородной, сам её батюшка говорил так : «Ведём мы род – звание свое ещё с тех самых горцев воеводских, шо с горных лесов, отых шляхетных, заключивших братовство с панами Гудисонами». Богун из этого всего понимал лишь что значится род шляхетный, а кто такие Гудиносы… то есть Гудисоны он не знал и в помине, но в его понимании звучало это слово очень благородно и изредка он даже призадумывался чего ж отче не назвал его именем схожим, чтобы было сразу понятно – шляхтич. Может быть будь он Гудисоном, то и паночки отец не противился бы их с дочерью отношениям. Но увы, байстрюковым сыном был Богун, а оттого с Агнессой виделись они редко и всегда бурно, такой должна была быть и эта ночь… Белолицая паночка озираясь по сторонам встретила юного хакмаррца задорной улыбкой, желтоватые зубки сияли настоящими алмазами в свете звёзд и Богун не выдержал – улыбнулся сам, приподняв редкие, ещё совсем детские, «усы» над губами.
«Не спойман был, не замечен?» - улыбка паночки спала также быстро как и появилась, она умела меняться в настроении, показывать характер.
«Чи ты шуткуешь с меня, солнце мое ясне? Или часто Богуна ловили?» - не переставая улыбаться, проговорил юноша, приближаясь к своей возлюбленной.
«Ой хитрый лис, ох подлый» - паночка проговорила это задорно, упрёка не слышалось. Её полные ножки понесли её чуть назад и она, не озираясь, смотрела в яркие глаза мальчишки.
Где – то сбоку в кустах послышался шум и флирт молодых прервался, Богун, словно дикий зверь, услышавший охотников, повернулся в сторону гомона.
«Шо то? Звери?» - паночка обошла суженного и встала у него за спиной, тихо и со страхом подкидывая свои опасения и в без того напряженной ситуации.
«Мы значит звери, а не вы. Чего ж тогда в чистим поле любитесь, а?» - грубый мужской голос послышался из-за кустов, а вслед за ним вышел и хозяин – рослый мужчина годов неопределённых 50 годов отроду, его лицо покрывала густая борода и сросшиеся брови из – под которых хищными угольками пылало два карих глаза. «Стефан», - сразу понял Богун. Стефан был десницей отца паночки и оттого боялись его чуть ли не больше самого хозяина хутора в окрестностях. То ли от безысходности, то ли от чрезмерной самоуверенности мальчишка потянулся рукой к сабле, украденной на эту ночь у отца… Тут же взгляд мужчины напротив метнулся к оружию и окрестности разбил тон, уже совсем не шуточный как при первой фразе, - «Отсеку ж бо руку, да отсеку по локоть! Брось, дурне дитя!». Стефан сам положил руку на свой меч, как бы подтверждая предупреждение Богуну, паночка позади мальчишки многострадально «охнула», а сам мальчишка сглотнул, проглатывая страх.
«Добре – добре, пане, не надо гневаться»… -проговорил заезжий любовник, убирая руку от своего, а точнее отцовского оружия. Голос его звучал так, будто бы встретил он не панового воя, а самого настоящего лесного косолапого.
«Решился таки паскудить господаря нашего дочь?», - мужчина проговорил это таким голосом, будто бы Агнесса была его чадом, а не дитём его господина и лишь сейчас Богун понял во что вляпался.
«Ну чого ж паскудить? Я действительно чувствую к паночке только добро! Флорэндом Святым вам клянусь!» - затараторил юноша, но почти сразу был перебит вскриком стоящей позади девчонки.
«Тикмо добро? Ах ты лгун! Иль не ты мне клялся в любви, не ты до тела лез!? Добро значит да!? Брехло!» - каждое слово паночка сопровождала чередой ударов в спину Богуну, тот находясь между двух «огней» : Стефаном и Агнессой, бросился бы к первому, но тот был также непреклонен как и некогда возлюбленная хакмаррца.
«До тела лез, паскудёнок? В любви клялся, чёртов сын?! Ну ты у меня под кнутом поклянешься, ох поклянёшься, сучёнок.» - буквально прорычав эту фразу, Стефан схватил Богуна за шиворот и поволок за собой в сторону хутора. Исполнение угроз мальчишке долго ждать не пришлось и попавши в немилость хозяина соседнего хутора за «порочные связи с дчерью», тот отсчитал ему двадцать пять ударов батогом. Несколько слуг довольно быстро повалили мальчишку на колени, стянув белую рубаху, а Стефан несколько раз ударил орудием по земле, поднимая в ночной воздух пыль, заставляя Богуна стиснуть зубы от страха. «Ну хоть не убили» - думал юноша по началу, но на момент тринадцатого удара понял – лучше бы сразу срубили голову. Спина пекла так, будто бы её облили хорошенько закипевшим солнечным маслом, а затем осыпали каменной солью из недр гротдорских гор, почти вдоль всего хребта у Богуна лопнула кожа, позволяя окровавленным шматам мышц проступать сквозь открытые раны. На последний, двадцать пятый, удар тело юноши протяжно задрожало и он, отпущенный слугами, упал без сил на землю, оставленный на волю доли. Может так и пролежал бы Богун до самой своей кончины, как полудохлая псина у панского двора, коль не Сивко, что мокрым своим носом и взволнованным фырканьем привёл хозяина в чувство. Холодное утреннее солнце ударило в лицо хакмаррцу, когда тот открыл глаза, Сивко всё также продолжал тыкаться мордой в тело Богуна, как бы пытаясь его в себя.
«Тихо, тихо, друже» - проговорил юноша, с трудом поднимаясь на ноги, придерживаясь седла. Тело болело невыносимо и от боли той казалось Богуну, что в теле его не осталось ни одной целой косточки, а двигается оно не иначе как чудом. Впрочем, если двигается, значит надо этим пользоваться – крепко держась за своего коня, юноша собрался с духом и с третьей попытки смог взобраться на скакуна, чуть не потеряв сознание при этом.
«Неси друже, неси ветру» - проговорил Богун, без сил упавши на спину коня и тот поскакал неспешным галопом в сторону родного хутора.

Раны заживали долго, матушка горько плакала пока обрабатывала их, а отец то хватался за саблю и грозился отомстить соседнему хутору, то наоборот в руке его оказывался батог и лишь удерживаемый женой своей он не вредил сыну дополнительно того, что уже было наделано безбожниками соседами. Богуна же в этом время била сильная горячка и днями он не мог встать на ноги, а когда всё же встал, то почти сразу пошел к батьку, упав тому в ноги и слезливо запросил прощения.
«Пробач, батьку, прости дурного» - причитал он, зная суровый нрав своего отца, крепкого батрака, что до оседлости гулял полем и, поговаривали, даже имел свой кош. К удивлению Богуна, отец его не стал порицать и голосом строгим велел подняться. Долго смотрели молодые очи хакмаррца в глаза своего отца и может поняли они друг друга и без слов, а может так совпало, но только проговорил старый батрак сыну. – « Бери шаблю мою и иди во двор, учить тебя треба… Не наш род панскому сапогу погонять…»
Учение шло долго и хоть Богун был ловчее и сильнее своего отца, но опыт стоил куда дороже физической силы молодого хакмаррца, а потому почти всегда верх одерживал учитель : то быстрым ударом по эфесу выбьет оружие сына из его рук, то специально даст ученику сделать выпад, а сам уйдет вбок и подсечкой ноги быстро уложит нерадивого на землю. Такое обучение хоть и было жестким и в каком – то роде унизительным для Богуна, но шрамы на спине всегда напоминали ему что может произойти с человеком, что не может постоять за себя. Именно это понимание дало толчок хакмаррцу к пониманию происходящего вокруг и оттого так болело его молодое сердце так рьяно, что лишь рабские отметины на спине болели больше. Когда стукнул Богуну второй десяток лет, когда продолжением его руки стала сабля, а отец не мог больше ничем научить, тогда разгорелся костёр мести в сердце отрока батрака и собравши парубков окрестных, знавших его с детства начал он речь свою: «Все свободы весьма жаждут, а не в один гуж все тянут; той направо, той налево, а все, браття, тото дивно! Не маш любви, не маш згоди. Од живой взявши Воды, Чрез незгоду все пропали. Сами себя своевали. «Эй, братища, пора знать, что не всем нам пановать! Паны крови нашей пьют и детей своих напоют! Я сам бедный не сдолаю, только что да заволаю : Эй, свободны вои, друже, освятите ваши души! Свергнуть пана – самозвана! За свободу хоч помрём, славу нашу разнесём! Пускай вечно будет слава! Только сабля даст нам право!».
И воскрикнули тогда парубки и замельтешили саблями, направляя гнев свой на панский род.
«Да будет воля! Будет правда! Гайда!», - слышалось с толпы, пока Богун седлал верного своего коня, взмахнув отцовской саблей он направил бунт товарищей своих на соседний хутор, из которого недавно возвращался сам полуживой…

Сеча была ужасной, горели хаты, богатых панов разгневанный люд вытаскивал из собственных жилищ и в лучшем случае избивал до смерти, а в худшем ещё и мучал перед кончиной. Остатки воинского сопротивления, во главе со Стефаном, были подавлены так быстро, что Богун даже не успел лично поквитаться со своим обидчиком, чье тело ныне покоилось на высоком наточенном суку. Разруха, боль, кровь и нечистоты… Среди всего этого широким шагом шел мальчишка, поднявший этот бунт, тот кого ныне звали Отаманом. Именно такой он и видел справедливость, вспыхнувший огонь селянской ярости, терпению которых пришел конец. Богун не жалел панов, не горевал он по тем, кто обдирал его народ, а всяких магнатов да от малого до великого к оному не причислял вовсе. Может потому и выбрали Богуна кошевым бунтующие соплеменники его, такая же радикальная молодёжь, да бедный мужик, которому уже не оставалось ничего, кроме как воевать – видели они в нём родную душу, чувствующую боль их обременяемого народа.
Когда погас пожар над хутором и были вынесены людом оттуда все драгоценности да всё горячее пойло выпито, тогда лишь стало понятно вольному ныне люду, которые деяния сотворены ими были.

Ясно стало, что нет пути более назад и узрев смятение среди братьев своих, Богун созвал их, став сам выше на бочку так, чтобы видели его очи соратников.
«Чи то любо нам, братцы, жить было?!», - воскликнул громко Отаман, сапогом своим ударив по бочке, да привлекая к себе внимание глах оных. Засуетилась толпа, загомонила… Но слышны стали уверенные окрики сынов хакмаррских.
«Не любо, Отамане! Не любо!», - восклицали то тут, то там работяги, а некоторые даже поднимали свои здоровые, видавшие работу суровую, кулаки вверх.
«А чи любо, братцы, жить народу нашему под панским сапогом?!», - второй раз крикнул Богун, разведя руками по собравшимся, показывая что обращается он ко всему товариществу своему. И ответа долго ждать не пришлось, меньше думали «братья» отамановы, да закричали они чуть ли не в голос один.
«Не любо, Богуне! Не любо народу нашему жить!», восклицали оные, да поднялись в небо сабли да мечи их наточенные.
«А чего ж тоди мы, браты, нашу кров в лихо бросаемо, да свои брюха – карманы набиваемо, а?!», - Богун сказал это грозно и с претензией, как отец который ругает своего нерадивого маленького сына, обучая головушку его мутную уму да разуму. Замолк люд, то ли думая, то ли от стыда за равнодушие свое. И продолжил Богун…
«Так коли мы вже взялись панский сапог да с хребтов наших откидывать, коли сабля наша верхом сейма стала, та коли вже мы шляхтичами не меньшими, а большими магната проклятого, себя окрестили, то чи можем мы брата нашего в беде оставить?!», - промолвил Отаман на одном дыхании, осматривая собравшихся, да выдохнул тяжело.
«Не можем, Богуне! Не можемо! Не кидает брата наш люд, не бросает кров народну в лихо!», - голосила толпа, отвечая на вопрос вожака своего.
«А коли так, парубки, так седлаймо ж коней да высечем сволоту панску! Гайда высечем, да поженим магната, да на паночке – земляночке! Гайда!» , - гордо произнёс Богун, запрыгивая на Сивка, да чоботами ударяя бога лошадиные. Так и появились Вепри, вольная хакмаррская освободительная компания, что впрочем чаще выливалось в жестокий самосуд над зажиточными панами да магнатами широких полей северного загорья. Падал хутор за хуторами в огне селянских восстаний и вскоре таких как Богун и его Вепри появилось такое множество, что сосчитать трудно, а впрочем может были оные гайдамаки и раньше Отамана и его «братьев», а может появились примерно в одно с ним время. Сказать уже трудно, ибо каждый уважающий себя «вольный человек» в этом плане будет отстаивать как не свою правду, так правду кума, брата или свата, а всё чужое, то от нечистого. Кто бы то ни появился раньше, но вот только видели люди в этих разбойниках, собранных из кметов, справедливость и тянулись к ним и вставали с колен, да вставали так, что оные колени у магнатов дрожали, а портки мокли, ибо нет ничего страшнее народного гнева, гнева землепашца и лесоруба, ибо если уж довели народ до того, что косы и топоры в сечу пускаются, так и сеча та будет страшна. Очагами мятежа вспыхивали отдельные части степов, что ныне Айленфуртскими звались и прозвали это селянской войной.

Клинок гулко ударился о клинок и запела сталь, разрезая воздух. Матёрый, на 2 головы выше Богуна, амбал держал в своих руках меч – бастард, казавшийся в его руках кинжалом. Взмах и вслед за ним ещё один, дабы зацепить отаманскую шею. Но Богун оказался быстрее, быстрым присядом он уходит от режущей кромки, взмахивая своей саблей и вот уже кажется летит певучая да вспарывать брюхо противнику, да попадает в ногу.
«Пёс поганый!», - хрипит здоровяк, переходя на полутона своего тенора от боли и делая несколько шагов назад.
«Пёс, но кусаю добре, га?», - посмеиваясь проговаривает Богун, поднимаясь в полный рост и поигрывая сабелькой. Бой утомил его, за долгое время впервые попался в панских рядах достойный противник, которого не смяли копьями да вилами крестьянской ярости. И хоть нежданная для обеих сторон стычка на тракте закончилась в пользу Вепрей, Отаман приказал оставить сражение с лидером панских воев для себя. Откуда взялась у него, Богуна, сына хакмаррской степи, эта дурная привычка шляхты и панов: благородствовать да красоваться? Казалось ему, что чем больше магнатов и благородных морд он лишает жизни, тем больше сам становится на оную благородную морду схож нравом своим… Раздумье прервал быстрый колющий выпад со стороны противника, сопровождаемый криком.
«Пёс да кусючий, шо руку кормящую грызе! Грязь и сволота!», - вопил детина, пока его меч острым кончиком устремлялся в сторону отаманской груди. И хоть габариты панского ратника были воистину медвежьи, ловкостью он не уступал рыси. Богун провернул ногой, в последний момент пытаясь уйти от выпада вбок, дёрнулся, перевернулся и даже на мгновение показалось ему, что всё вышло, да только поднимаясь на ноги увидел он окровавленную рубаху на груди. «Не смертельная рана, но бой надо заканчивать сейчас, иначе истеку кровью как хозяев свин», - подумалось Богуну и тот бросился на воина, уже готовившегося принимать удар. Совершая резкий выпад, который вот – вот должен был заблокировать противник, Отаман перекинул саблю в другую руку, да так ловко и быстро, будто не оружие танцевало в его руках, а небольшая птичка летала со стороны в сторону. Выпрямил Богун свою руку, моцно и резво, протянув всё свое тело в этот удар… Потекла кровь воина по клинку, что пробил ему шею да подбородок, и упал замертво богатырь, а вместе с ним и Богун за грудь держась. Рванули к вожаку своему «вепри», осматривать начали.
«Ой что же вы, пану – брату, та перед боем да раниться вздумали», - запричитала кош Богунов.
«Чи отказывается наш род от боя с супостатом достойным? Не бывать такому», - проговорил Отаман, закрывая глаза, да головоньку опуская на землю сырую. Много крови вытекло из груди его, да не держали очи уже. Подхватив «брата» своего, да коня и сабельку оного забрав, повезли молодцы отамановы его обратно в стан.
Долго лежал Богун с грудью раненной, тяжело заживал порез, а больнее было ему от того, что получил он его в такое важное время… Собирались в этот час силы крестьянские ведомые различными предводителями, одним из которых и был Богун, да должны были эти силы ударить в сердце магнатской тирании – в Айленфурт. Поговаривали даже, что гротдоры из клана Гудисон на их стороне выступали и были готовы стены в крепость то ли подорвать, то ли подрыть. Богуну мало в такое верилось, ибо глазами своими он этого не видел, но зато хорошо знал как гротдоры держали в стальной рукавице его народ на протяжении столетий. Впрочем как бы там ни было, а даже без низкорослых сил селян и вольного люда было достаточно. Не оставалось у Отамана другого выбора и отдал он приказ вести в тот роковой день войска своему сотнику – Лесю, отважному парню, коему доверял Богун больше чем своей правой руке…

Штурм был тяжелый, как и всё сражение. Ополченцы то прорывались, то вновь отступали под натиском городской защиты. Лилось кипящее масло, летели арбалетные болты да стрелы из лука, звенела сталь о сталь. Богун не находил себе места, находясь в отдалённом шатре на холме, откуда виднелась осада. Мельтешили туда сюда люди – муравьи, знаменуя неопределённость в ходе битвы. Отаман сам несколько раз порывался поехать в атаку, не смотря на раны, но благо верные люди останавливали его от этого глупого поступка…
«Рана откроется, брату… Не запалкуй, справляться без нас», - говорили они, и были правы. Рана действительно могла вновь начать кровоточить от любого неверного движения.
Вскоре с фронта пришли первые новости – часть ополчения отступает сломленные неудачной атакой, держится лишь половина, включая «вепрей», гротдорских ополченцев и несколько отрядов под предводительство иных вольных компаний… Не находил себе места Отаман и не зря, под утро следующего дня прибыло несколько людей из его отряда знаменуя то, чего так боялся их вожак :
«Пали, Отаману, пали в битве наши парубки, нема больше «вепрей…». Паника, отступающие воины и раненный Богун, уносимый Сивком и парой верных друзей в сторону от места поражения… Разбитая жизнь, разбитые мечты и надломленный дух…