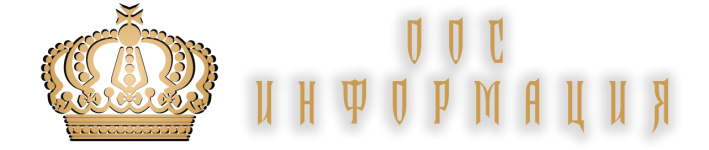

Имена, прозвища:
Рафаэль Де Сен-Круа
Раса персонажа:
Вампир - Вентру
Стойкость - Доминирование
Человечность - 6
Языки:
Дартадский, Флорский, Амани.
Возраст:
32 года (на момент обращения) | 120 нынешний
Внешний вид:
Высокий и статный, сдержанная, но внушительная осанка, движения точные и выверенные. Лицо аристократическое, с резкими чертами, глубоко посаженные голубые глаза, которые излучают холодный, пронизывающий взгляд. Густые черные волосы аккуратно зачесаны назад, без единого выбившегося локона. Кожа бледная, почти мраморная. Одевается преимущественно костюмы из дорогих тканей, без лишней вычурности, но всегда безупречно элегантно. На левой руке носит небольшое кольцо — напоминание о человеческом прошлом и его былой любви, хотя сейчас носит его уже не из принципа, а банальной привычке и части образа.
Характер:
Холодный и расчетливый, Рафаэль редко проявляет эмоции, предпочитая сохранять эгиду невозмутимости. Он умеет быть обаятельным, если того требуют обстоятельства. Верен своему сиру, графу Клоду-Анселю де Виллеруа, и стремится оправдать его доверие, хотя где-то глубоко в душе зреет мечта стать равным или даже превзойти его. Терпелив и хладнокровен, но иногда его рвение к признанию толкает на рискованные поступки. Он не прощает слабости ни в себе, ни в окружающих, и не терпит пренебрежения к своей персоне. Рафаэль жаден до золота так же, как до власти, его алчность — это бездонная пропасть, которую он не в силах заполнить, даже обладая несметными богатствами, он жаждет большего.
Таланты, сильные стороны:
Манипулирование: Опыт в интригах и политике делает его мастером переговоров .
Финансовая грамотность: Даже спустя десятилетия остается искусным банкиром и экономистом, строя финансовые схемы и поддерживая ресурсы своего клана.
Аристократическое влияние: Обладает навыком вести беседы на высоком уровне, выказывая тонкую учтивость и уверенность, что подкупает и внушает уважение.
Слабости, проблемы, уязвимости:
Гордость: Рафаэль болезненно реагирует на неуважение или унижение, что иногда делает его уязвимым для провокаций.
Страх слабости: Он не позволяет себе проявлять эмоции, даже если это было бы уместно, из-за чего часто кажется бесчувственным .
Амбиции: Желание достичь высот часто затмевает здравый смысл, заставляя принимать рискованные решения.
Прощение: Он не забывал ни одного долга, ни одной обиды, ни одного предательства. Он мог терпеливо ждать, выжидать годы, но рано или поздно тот, кто когда-то перешёл ему дорогу, понимал, что это был роковой промах.
Мечты, желания, цели:
Стать признанным среди Вентру: Получить статус, который позволит говорить на равных с самыми сильными старейшинами.
Создать финансовую империю в Новом Свете: Использовать возможности заокеанских земель для укрепления влияния клана.
Превзойти сира: Доказать Клоду-Анселю, что он достоин не просто быть тенью, а стать полноправным правителем, равным ему.
Собственная династия: Рафаэль не хочет быть вечным подчиненным, он хочет собрать вокруг себя тех, кто будет ему служить, кто будет ему предан безоговорочно.


АКТ I - Золотая кровь
Прекрасные виноградные сады Флорэвенделя простирались до самого горизонта, поднимаясь мягкими волнами на склонах холмов. Лазурное небо ласково склонялось над этим уголком земного рая, а аромат свежего винограда, смешанный с тонкими нотами цветущего лавра, наполнял воздух. Луга, переливающиеся всеми оттенками зелени и золота, расстилались меж узких дорог, ведущих к старинным усадьбам и монастырям, скрытым за стенами плюща. Однако всё это буйство красок и изысканность природы имело свою цену.
Не было бы этих благословенных земель, если бы не реки крови, пролитые за их обладание. Каждое поле здесь помнило ржание боевых коней и звон клинков, каждый камень крепостных стен был возведён потом и слезами. Войны вспыхивали снова и снова, сменяя друг друга, как времена года. Флорские бароны сражались за виноградники и пашни не меньше, чем за честь и титулы. И как бы прекрасны ни были эти земли, истинной их сутью была борьба: за власть, за наследие, за золото.
Рафаэль де Сен-Круа родился в одном из древнейших, но к моменту его рождения, уже обедневших дворянских родов Флорэвенделя. Его семья, некогда могущественная и знатная, несла свой герб с гордостью, но к последним годам, их герб едва выглядывал из-за дна долговой ямы, в которую они влезли. Отец Рафаэля, Гийом де Сен-Круа, был человеком строгих принципов, последним стражем древней чести их рода. Он держался с достоинством, так, словно его земли не были давно заложены, а дом — не кишел шипящими, как змеи, кредиторами. Он старался держаться, как будто он мог лишь упрямством удержать то, что безвозвратно утекало сквозь пальцы. Но глаза выдавали правду — холодный блеск стального самообладания скрывал в них отчаяние, особенно когда перед ним оказывались очередные долговые расписки.
Мать, Элеонора, происходила из древнего, но не столь богатого рода, что бы полностью погасить все задолженности семьи. Брак с Гийомом де Сен-Круа был скорее союзом необходимости, чем любви. Род Элеоноры надеялся укрепить своё положение, породнившись с именитым на то время человеком. Однако вместо роскоши и стабильности она получила лишь сомнительное поместье, что в ближайшие несколько лет грозилось заложиться. Но она несла свою ношу с достоинством, никогда не жалуясь на нищету. Элеонора никогда не проявляла тёплой материнской ласки, но её строгость формировала в Рафаэле стойкость. Если отец Рафаэля боролся за семью снаружи, вступая в бесконечные разговорные баталии, то мать защищала её изнутри, превращая семейное разорение в тщательно скрываемый секрет. Она не позволяла слугам обсуждать упадок семьи и настаивала, чтобы дети держались подобающе им.

Семейное разорение началось ещё в дни нескончаемых войн с Хаккмарскими дикарями. Дед Рафаэля отправился на границу, надеясь возвратиться с золотом и почестями, но был пленён и в последствии выкуплен за огромную сумму. Гийом де Сен-Круа, тогда ещё совсем юный, помнил этот день — тяжёлый день, когда их семейный герб впервые омрачился бедностью. Земли были заложены, и в сокровищнице замка Сен-Круа осталась лишь горсть пыли. Но даже после этого невзгоды не отступили. Семья пыталась восстановить положение за счёт торговых соглашений и брачных союзов, но безрезультатно. Неудачные сделки, проигранные суды, потерянные земли — всё это лишь безукоризненно вело род в забвение.
Старшие братья Рафаэля — Жоффруа и Тибо — были воплощением рыцарского идеала, о котором они слышали в детстве из уст странствующих менестрелей и старых семейных преданий. Они мечтали о славе, добытой в бою, о щедрости короля, который одарит их землями и титулами за верную службу. С мечами в руках и гербами на щитах они ушли на войну, уверенные, что их подвиги вернут роду Сен-Круа былое величие.
Рафаэль же, пускай и ставил своих братьев в пример для себя, как людей гордых и отважных, все же не планировал ступать по той же тропе, по вине которой весь их род оказался на грани пропасти. Да и оружейное мастерство давалось ему с большим трудом, каждый раз на тренировках отбивая себе как минимум по одному пальцу. В целом, парень отроду был склонен к более пацифистическим способам достижения целей, что не редко служило причиной насмешек от его братьев.
Рафаэлю часто приходилось наблюдать за своим отцом, Гийомом де Сен-Круа, который, стиснув зубы, вёл бесконечные переговоры с менялами, заимодавцами и ростовщиками. Эти люди, одетые в пускай и скромные, но дорогие одежды, с холодными глазами и расчётливыми улыбками, внушали аристократии настоящее презрение. В их руках никогда не было меча, лишь перо, и всего один росчерк, мог лишить целый род всего. Отец ненавидел их, и клялся, что однажды кого-нибудь да прикончит, но был вынужден склонять голову перед их властью. Парень же, пускай и одинаково озлобленный на них, проявлял некоторый интерес к тому, что они из себя представляют, раз уж могут себе позволять склонять голову своего отца, человека когда-то гордого и непреклонного.
Когда Рафаэль научился читать — а научила его этому мать, Элеонора, женщина строгая, но образованная, — он погрузился в библиотеку с такой жаждой, что это удивляло даже её. Элеонора, происходившая из рода, где грамотность ценилась не меньше, чем воинская доблесть, сама когда-то изучала вымерший сакруманский язык и философию. Она видела в младшем сыне ребёнка с прагматичным складом ума и желала развить его как можно лучше, что бы тот в будущем, после окончательного разорения их баронства, мог найти себе работу в городской канцелярии.
Сначала это были простые молитвы, но вскоре Рафаэль перешёл к более сложным текстам. Он начал с книг, которые пылились в семейной библиотеке, — хроник, трактатов о земледелии, старинных рыцарских романов. Однако его истинным интересом стали документы, которые отец приносил в кабинет после встреч с кредиторами и купцами. Рафаэль тайком пробирался в отцовский кабинет, разбирал сложные договоры, изучал условия займов, вникал в тонкости процентов и залогов. Пускай его мозг на первых порах и не был способен осознанно воспринимать весь этот, бездонный пласт бюрократии, он, с каждым разом подмечал для себя что-то новое, чего раньше не понимал. А термины, которые он самостоятельно не мог осознать - якобы невзначай узнавал у своих родителей.
Однажды, когда Гийом де Сен-Круа, уставший после очередной бессонной ночи, нашёл сына за своим столом с пергаментами в руках, он сначала хотел рассердиться. Но, увидев, как внимательно Рафаэль изучает документы, как уверенно он объясняет, какие ошибки были допущены в последнем договоре, Гийом лишь тяжело вздохнул. В его глазах мелькнуло что-то похожее на гордость, смешанную с горечью.
— Ты хотя бы понимаешь, что читаешь? — иронично спросил он, со вздохом опускаясь в кресло.
— Да, отец, — ответил Рафаэль, не отрываясь от текста. — Здесь написано, что если мы не вернём долг к следующему полнолунию, они заберут виноградники на востоке. Но если мы предложим им вместо этого часть урожая с южных полей, они, возможно, согласятся отсрочить выплату.
Гийом смотрел на сына, словно впервые его увидел. Тяжело прохрипев, тот принял инициативность своего сына, что в свои подростковые года мог смотреть дальше, чем он сам. С тех пор он стал допускать Рафаэля к своим делам, пусть и с некоторыми оговорками.
Рафаэль же использовал каждую возможность. Он изучал, как строятся финансовые отношения, как работают кредиты, как можно манипулировать условиями договоров. Он начал замечать закономерности, которые ускользали от других. Пускай и вся та информация, что он узнавал была зачастую поверхностной и не отражающая настоящую суть вещей, это все равно помогало ему обрести некоторое понимание. Например, он понял, что кредиторы часто шли на уступки, если чувствовали, что должник знает свои права и может поставить их в невыгодное положение. Однако его семья была настолько истощена, что единственное, что они могли поставить - это точку в своей дворянской истории. Но до того момента, они откладывали неизбежное, с каждой порой года теряя части своих владений.
В конечном итоге, когда дела стали совсем плохи, мать поспешила устроить своего сына в церковь, дабы тот получил образование, которое она не в силах была ему в полной мере подарить. Его дядя, служитель кафедрального собора Святого Флоренда в Эирини, предложил взять Рафаэля к себе для обучения, юноша не возражал. Напротив, он увидел в этом предложении не просто возможность, а судьбоносный шанс вырваться из оков семьи. Эирини — город, пускай и погрязший в реках крови за каплю власти, — манил его, как маяк в бурном море.
Утро отъезда выдалось холодным и окутанным густым туманом. Сырой воздух пропитывал всёвокруг, а белёсая мгла словно обвивала замок Сен-Круа, удерживая его в цепких объятиях. У ворот, запряжённая парой выносливых, но старых лошадей, уже ожидала повозка. Деревянные колёса поскрипывали от влаги, а старый слуга семьи, Мартен, неспешно проверял упряжь, его дыхание растворялось в холодном воздухе лёгкими облаками пара.
Рафаэль вышел из замка, держа в руках небольшой сундук с книгами и личными вещами. Его плащ, когда-то подарок матери, теперь казался потускневшим, а в некоторых местах из него торчали нитки. На ступенях замка, выделяясь тёмной фигурой на фоне серого камня, стояла его мать, Элеонора. Она, как всегда, держалась прямо и гордо, но в глубине её взгляда отчетливо можно было прочитать волнение за своего сына. Подойдя ближе, она поправила складки его плаща и, слегка приподняв его подбородок, заглянула в глаза.
— Помни, кто ты, — проговорила она своим привычным, стальным тоном. Сильная женщина. — Ты — Сен-Круа. Никогда не позволяй другим забыть об этом.
Рафаэль едва заметно кивнул, но ответить не успел — из полумрака ворот шагнул его отец, Гийом де Сен-Круа. Сегодня в его обычно усталом лице сквозила едва уловимая улыбка. В руках он держал свёрток, аккуратно завёрнутый в ткань.
— Ты взял всё необходимое? — его голос звучал глухо, хрипло, будто долгое время он хранил молчание.
— Да, отец, — ответил Рафаэль, несколько удивлённый этим проявлением заботы. Гийом редко обращал внимание на детей, и тем более не был склонен к сентиментальности.
Молча, он развернул ткань, показывая старый герб рода Сен-Круа — серебрянный крест на червлёном поле.
— Этот знак был с нами в сражениях, в победах и поражениях, — Гийом протянул сыну ткань. — Возьми его. Пусть напоминает тебе о твоём происхождении.
Рафаэль принял свёрток, ощущая тяжесть не только ткани, но и самой истории семьи. Отец внимательно посмотрел на него, словно разглядывая его лицо в первый и последний раз.
— Я знаю, что тебя не прельщают молитвы. — тихо добавил он. Но запомни: сила, которую ты ищешь, — это не только золото и власть. Это также долг. Перед семьёй, перед теми, кто зависит от тебя.
Пытался ли он манипулировать сыном? Наверное. Оставлял ли себе лазейку на случай, если мальчишка выбьется в люди? Безусловно.
Рафаэль вновь кивнул, но не покорно, наоборот, словно несколько нахально. Он рад был уехать. Он не видел в этом потери, не чувствовал себя изгнанником. Он чувствовал долгожданную свободу.
Повозка тронулась, и вскоре за окном потянулись бескрайние поля, где крестьяне, согнувшись над землёй, собирали урожай. Их лица были усталыми, руки — покрытыми мозолями. Один из них, седобородый старик, на мгновение выпрямился и встретился взглядом с Рафаэлем. В этих глазах не было ни гнева, ни зависти — только молчаливая покорность судьбе. Рафаэль ощутил странное сожаление, но тут же прогнал его. У них был свой удел. Или, возможно, у них никогда не было выбора.
АКТ II - Церковь
Когда повозка въехала в Эирини, город раскрылся перед Рафаэлем, как огромный организм, полный движения и жизни. Узкие улочки извивались между высокими домами, над крышами которых клубился дым, смешанный с ароматами свежего хлеба, пряностей и нечистот. Торговцы громко зазывали покупателей, кузнецы выбивали ритм молотами по раскаленному металлу, дети носились между прохожими, выкрикивая что-то весёлое и дерзкое. Рафаэль смотрел на этот хаос и чувствовал, как в груди зарождается азарт — предчувствие чего-то великого.
Вскоре он прибыл к собору святого Флоренда, чьи шпили тянулись к небу, словно стремясь коснуться самого Бога. Дядя, Анри де Сен-Круа, ждал его у ворот — высокий, сухощавый человек с пронзительным взглядом. Его длинная чёрная сутана подчёркивала строгость его характера.
— Добро пожаловать в Эирини, племянник, — сдержанно произнёс он. — Надеюсь, столица оправдает твои ожидания. Пока что мне понадобится твоя помощь. Пойдём.
Дом дяди находился неподалёку от собора, в тихом переулке, где шум города глушился каменными стенами. Его комната была скромной, но уютной, а по утрам он просыпался под звон колоколов и далёкие крики торговцев. Здесь начиналась его новая жизнь.
Новый распорядок дня обязывал его просыпаться на рассвете, дабы не пропустить утреннюю молитву в соборе.
Благо, выучивать её заново не приходилось, поскольку мать обязывала его заучивать основные молитвы, которые они все вместе читали после скромного ужина. Большая часть учеников представляла из себя незатейливых наследников ремесленников, порой просто сирот, для которых великодушно открыла дверь церковь либо младшие сыновья знатных семей, которых было всего несколько, включая его самого. Они не могли рассчитывать на наследство по праву своего рождения, из-за чего те подались в церковь.
После утренней молитвы, Рафаэля принимался за работу, в которую его загребали священнослужители, либо, дядя. Разумеется, драять пол, чистить картофель и протирать иконы от пыли доставляло ему сомнительного рода удовольствие, от чего тот с большим рвением и энтузиазмом брался за работу в библиотеке, разгребая документы и переписывая книги. Порой даже попадались документация бюрократического характера, связанная с финансовой частью церкви, что его безмерно радовало.
После кропотливой работы в священных стенах, тот обычно отправлялся в дом своего дяди Анри, где вновь принимался за чтение, либо уборку дома, поскольку это единственное, чем он мог ему отплатить за подобный, несомненно щедрый, жест. В свободное же от остальных дел время, он проводил на улицах, заводя знакомства с местными мещанами, ремесленниками и купцами.
Одним из таких знакомств, стала встреча с девушкой, Изобель. Она была дочерью аптекаря, не слишком знатной, но образованной и добродетельной.
Она появилась внезапно, вынырнув из пелены последождевого тумана, ведя за собой небольшую тележку с лекарствами. Колёса глухо стучали по неровным булыжникам, а сама она шла быстро, чуть сутулясь, будто спешила скрыться от утреннего ветра. Тонкий плащ облегал её плечи, но не мог защитить от холода, а подол платья был запачкан дорожной грязью.
В ней не было ничего броского, но почему-то Рафаэль не мог отвести глаз.
Лицо её было тонким, с высокими скулами и чуть вздёрнутым носом. Волосы собраны в простую косу, но несколько прядей выбились, прилипли к вискам, создавая образ чего-то небрежного, почти детского. Но глаза… Глаза были светлыми, почти прозрачными, словно вода в весеннем ручье, и в их глубине отражалась легкая надменность, редкая для женщин её положения.
Рафаэль не сразу понял, почему он обратил на неё внимание. В городе были сотни девушек — богаче, красивее, наряднее. Но в ней было что-то неуловимое. Какой-то внутренний свет, который не мог погасить этот город.
Она подошла ближе, и тогда он увидел, что на её губах играет лёгкая, едва заметная улыбка.Улыбка человека, который привык встречать жизнь с доброжелательным любопытством, даже если эта жизнь не всегда отвечает взаимностью.
Когда двое послушников бросились к ней, чтобы помочь разгрузить ящики, один из них споткнулся, и груз едва не опрокинулся. Девушка инстинктивно шагнула вперёд, но сама поскользнулась на мокрых камнях. Благо, Рафаэль среагировал быстрее, чем успел осознать. Он схватил её за локоть, удержал, не дав упасть.
Кожа её была прохладной, но под пальцами он чувствовал лёгкое биение жизни, её почти невесомую хрупкость. Она подняла на него глаза, и в этот момент город вокруг будто исчез. Остались только эти светлые глаза, наполненные внезапным изумлением.
— Осторожнее, — пробормотал он, чувствуя, как странное, неведомое ранее тепло разливается в груди.
Она кивнула, но не отстранилась сразу, словно тоже что-то ощутила. Этот момент длился всего несколько мгновений. Но этого было достаточно, что бы оставить опечаток в его душе.
Потом она выпрямилась, поправила подол платья и, бросив на него короткий взгляд, тихо поблагодарила и ушла.
Рафаэль долго смотрел ей вслед.
Случайные встречи перестали быть случайными. Он знал, когда она появится у собора с лекарствами, в какие дни отвозит отвары старику-священнику, когда задерживается у рыночной площади, беседуя с торговцами о новых травах. Рафаэль не выслеживал её, нет. Но он замечал и запоминал. Он подстраивался так, чтобы путь сам приводил его к ней.
Сначала это были мимолётные взгляды — короткие моменты, когда их глаза встречались среди людской суеты. Потом — тихие слова приветствия, произнесённые слишком сдержанно, чтобы казаться чем-то значимым. Затем – предлоги.
Изобель несёт ящики — он оказывается рядом, чтобы помочь. Она спешит через мост, прижимая к груди корзину с хрупкими склянками — он догоняет, предлагая проводить, ведь "всё равно в ту сторону". Она поправляет выбившуюся прядь, размышляя о чём-то своём, а он ловит себя на том, что хочет узнать её мысли.
Он замечал в ней то, что раньше бы проигнорировал. Как она хмурит брови, читая список трав. Как кусает губу, когда решает, что сказать. Как её пальцы, тонкие и быстрые, перебирают бутылочки в деревянном ларе. Как иногда, когда думает, что он не смотрит, она бросает на него короткий взгляд — будто оценивает его так же, как он оценивает её.
Парень лежал на жёстком матрасе в крохотной комнате своего дяди, уставившись в потемневший деревянный потолок. Сквозь ставни пробивался слабый свет ночного города, отбрасывая длинные тени на стены. В голове все метался образ Изабель. За все то время, что они общались, они очень хорошо сблизились. Они не боялись рассказывать друг другу самые потаённые секреты, которое они, несомненно, никогда и никому больше не расскажут. После повечерья, он сразу же сбегал через распахнутые двери монастыря только, что бы вновь увидеть её. Но ему показалось, что все то, что он делал для неё - было недостаточно.
Кольцо.
Рафаэль не понимал, почему именно оно. Может, в тот момент, когда он увидел, как Изобель проводит пальцами по узорчатому медальону на шее, словно что-то вспоминая. Или когда заметил, как её взгляд на мгновение задержался на украшениях знатной дамы, проходящей мимо рынка. А может, тогда, когда понял, что хочет оставить свой след в её жизни.
Оно должно быть простым, но изящным. Таким, что не покажется излишним, но будет значить больше, чем просто кусок металла. Он представлял её руку — тонкую, тёплую, с длинными пальцами. Представлял, как серебряный ободок облегает её палец, как камень, хотелось бы, сапфир или гранат, отражает свет. Но позволить он мог ей, только серебряный ободок.
Он ворочался в постели, вслушиваясь в топот сапог за окном. Мысли кружились в голове, как мошки у свечи. Кольцо. Изобель. Деньги. Нет денег. Надо деньги.
Рафаэль резко сел, словно его окатило холодной водой. Он зажёг свечу, пробежался пальцами по всклокоченным волосам. Сердце билось быстро. Мысль о том, что у него по прежнему нет ни гроша в кармане не давала ему покоя. Каждый раз, провожая взглядом знатных особ в городе, он не мог усмирить свою зависть к тому, что должно было быть и у него.
— Чёрт… — выдохнул он.
Деньги не придут к нему сами. Он знал одно: если он не придумает, как заработать, он останется нищим всю жизнь. И потеряет всё, что ему дорого. В голове пролетели образы из поездки в Эирини, где он встретился взглядом с пейзаном, кропотливо работающего на полях. Нет, такого он не допустит.
Он встал, торопливо накинул рубашку и бросился к столу. Смахнув со стола книги и пергаменты, он оставил перед собой пустое пространство. Он сел, вытянул перед собой руки и уставился в огарок свечи. Мысли текли рекою по его взбудораженному амбициями сознанию, вокруг него кружились сотни способов заработать, но ни за один он не мог ухватиться. Выхватив перо из чернильницы, он принялся записывать свои преимущества, дабы в дальнейшем отталкиваться уже от них. И на самом деле, он смог составить пускай и крайне рискованный план, в худшем случае которого его исключат из церкви или выпорют до зудящих шрамов. Идея заключалась в том, что бы заработать первый свой капитал на продаже свечей, немного дешевле, чем это сделала бы местная церковь. У него было знакомство с мужчиной, что мог бы помочь ему с этим делом, однако, денег у него по прежнему не было, по этому стоило найти кого-то, кто одолжил бы ему небольшую сумму на первоначальную закупку. В результате раздумий выбор пал на Пьера Лемуана, сына богатого торговца, отправленного в церковь для "спасения души". Сам Пьер был равнодушен к молитвам, в отличии от игр в кости.
Свеча почти догорела. Глаза слипались.
Он посмотрел на свой план и вздохнул. Перо выпало из пальцев.
Сон подкрался незаметно. Голова склонилась на бумаги, рука соскользнула со стола. В комнате остался только шорох огарка свечи и легкий шелест герба его семьи, что был повешен у стены.
АКТ III - Приобретение
На улице уже вовсю палило солнце, его лучи, едва сумевшие пробраться через крыши домов стреляли прямо в глаз парнишке. Тот противно захрипел и отошёл ото сна, вслушиваясь в доносившиеся из собора голоса. Священники и послушники, уже закончившие утреннюю молитву, расходились по своим делам. Он представил, как дядя Анри, сверкая холодным взглядом, осматривает ряды молящихся и не находит его среди них.
Он резко встал, пригладил волосы, сбросил с себя оцепенение, а после схватил бумаги, спрятал их в сундук под кроватью и выскользнул в коридор.
На рынке, в самом конце ряда ремесленников, стояла лавка свечника по имени Жером — невысокого человека с костлявыми руками и вечной сажей на одежде. Его свечи были дешевле церковных, но пользовались спросом среди тех, кто не мог позволить себе «освящённый» товар. Рафаэль прохлопал себя по карманам, ожидая что по божьей милости в них заваляется несколько флорингов, однако, те были бездонно пусты. Не желая сейчас попадаться на глаза монахов, он продолжил бродить по торговым прилавками, выуживая информацию о новых изменениях в ценах и последних новостях во Флории.
Он зашагал по церковному двору, оглядываясь, словно ожидая, что его схватят за плечо и потребуют объяснений. Но никто не обратил на него внимания. Жизнь текла своим чередом: новички-монахи таскали вёдра с водой, один из священников беседовал с купцом, договариваясь о поставках, в углу на каменной скамье сидел Пьер Лемуан. Его богатая сутана была слегка помята, а на пальцах поблёскивали тонкие золотые кольца — редкость среди послушников. В отличие от других, Пьер не стремился к святости. Он наслаждался комфортом, который обеспечивало положение его семьи.
Рафаэль подошёл к Пьеру Лемуану, чувствуя напряжение, сжимающее грудь. Просить деньги в долг — особенно у такого человека — означало ставить себя в уязвимое положение. Лемуан лениво наблюдал за ним, поигрывая золотыми кольцами на пальцах, и слушал с нескрываемым любопытством. Он задавал вопросы не потому, что ему было важно, а чтобы смаковать момент — зачем нужны деньги, какова выгода, как скоро он получит возврат.
Рафаэль же отвечал ровно, без излишков, сразу озвучив суть: он хочет купить свечи оптом и продать дороже. Пьер медлил, явно наслаждаясь ситуацией, а затем заговорил о процентах. Он пытался выторговать больше, но Рафаэль настоял на десяти.
Лемуан рассмеялся, бросил, что тот не умеет торговаться, но всё же достал кошель. Монеты зазвенели в его руке прежде, чем оказались в ладони Рафаэля. Напоследок он хмыкнул, напомнив, что при недостатке денег до конца недели, о его махинациях быстро узнают в церкви.
— Я все верну.
Он развернулся и ушёл, не позволяя себе вновь смотреть на его напыщенное хрючело.
Ветер разносил по улочкам запах мокрой брусчатки, горелого воска и перегноя. Где-то на углу торговцы выкрикивали свои предложения, перемежая речь с хриплым кашлем. Рафаэль шёл быстро, но не слишком торопливо — он ещё не знал, как вести себя в подобных делах, но точно знал, что нельзя выглядеть так, будто тебе есть что терять. Перед тем, как отправиться на рынок, он свернул в знакомый переулок, прошёл вдоль стены, где вечно копошились в мусоре нищие, и скрылся в дверях дома, в котором его приютил дядя. Он быстро сбросил сутану, оставшись в длинной льняной рубахе, ещё чистой, но немного помятой. Это уже выглядело лучше — неброско, скромно, но по-горожански, без явного намёка на монастырское происхождение. Он вышел, прикрыв за собой дверь, и с обычной для него лёгкой походкой направился к торговым рядам
Он нашёл его на торговой площади, в узком ряду между продавцами масла и ткани.
Жером Лавуа — невысокий мужчина с плотно сбитым телом и неопрятной бородой, в которой застряли куски засохшего воска. Ему было за сорок, и он явно видел в жизни многое. Лавочник был известен тем, что всегда делал скидки крупным заказчикам, но дерзал задирать цены тем, кто казался неопытным. Парень уже знал об этом заранее, по этому вел себя соответствующее.
Сейчас Жером сидел на низкой скамье у своего прилавка, перебирая свечи — толстые, тонкие, жёлтые, белые. От них исходил слабый, сладковатый запах мёда. Их было настолько много, что казалось, если их расплавить - им можно было заполнить небольшой пруд.
Рафаэль шагнул ближе, сунув руки по бокам своего тело, чтобы внушать уверенность, как себе, так и собеседнику.
Рафаэль четко и уверенно заговорил с ним, как будто уже не в первый раз вел такие переговоры. Жером Лавуа лениво поднял голову, смерил его цепким взглядом и усмехнулся, бросив колкость про нужду в свете.
Рафаэль парировал так же легко, намекнув, что его интересует не только товар, но и цена. Это заинтриговало лавочника. Он уточнил, от чьего имени тот действует, и, услышав, что юноша ведет дело сам, оценивающе покачал головой.
Рафаэль без лишних слов указал на коробки со свечами, объявив, что берет двадцать фунтов по оптовой цене, уверяя его в долгосрочном сотрудничестве и выгоде в сбыте довольно крупной части его товара. Жером удивился, но быстро прикинул в уме расчеты и ухмыльнулся: сумма, даже с учетом оптовой скидки, все равно не покрывала заявленный объём.
Парень в ответ спокойно возразил, что хочет получить товара больше, чем может оплатить, но вернет разницу через день. В доказательство своей честности он вытащил из рукава старый, отполированный до блеска деревянный крестик и протянул его.
Жером взял его, покрутил в пальцах, раздумывая, и наконец махнул помощнику. Сделка состоялась.
В его руках была деревянная корзина, заполненная аккуратно уложенными свечами. Восковые, ровные, они источали лёгкий аромат мёда. В храме подобные зажигали перед алтарём, но те были дорогими, тонкими и тянулись к небесам подобно молитвам. Эти же, купленные у Жерома, были простыми, крестьянскими — но это не значило, что он не найдёт для них покупателей, тем более, продавая по цене чуть ниже по рынку.
Он выбрал людную площадь неподалеку от собора — там, где люди собирались перед вечерней службой, переговаривались, завершали дневные дела. В тени фонарных столбов стояли торговцы с лотками, продавцы горячего эля, нищие, протягивавшие руки к прохожим.
Торговля шла сначала медленно: люди с подозрением смотрели на молодого продавца, но стоило первой женщине купить несколько свечей, как дело пошло легче. Он улыбался, подстраивал голос под каждого покупателя — для одних говорил о чистоте воска, для других о выгодной цене, а кто-то просто нуждался в тёплом свете в долгие зимние вечера. Иногда приходилось уступать в цене, но чаще — убеждать, что товар стоит своих денег. Одна женщина взяла сразу двадцать, "на зиму", а один лавочник предложил скупить остатки оптом, но по слишком низкой цене. Рафаэль отказался. Он был слишком упрям, чтобы уступить, слишком голоден до успеха. К концу дня, удивительно для него самого, корзина опустела, а в его кармане звякали долгожданные монеты.
Сначала он направился к Жерому. Свечник встретил его равнодушно, словно не сомневался, что юноша вернётся. Рафаэль молча отсчитал оговорённую сумму, а тот, пересчитав монеты, едва заметно кивнул. Ни похвалы, ни лишних слов — сделка состоялась, и теперь Рафаэль был для него просто ещё одним клиентом, а не неопытным мальчишкой.
С Пьером всё было иначе. Лемуан, развалившись на той же скамье у церковного двора, лениво разглядывал проходящих мимо послушников, когда Рафаэль подошёл к нему. Без слов он вытащил кошель и высыпал на ладонь Пьера положенные монеты. Тот медленно пересчитал, дважды, потом усмехнулся:
— Быстро ты.
Рафаэль ничего не ответил. Он только разжал пальцы и дал последним монетам упасть в ладонь Лемуана. Тот чуть прищурился, будто оценивая, не случилось ли чего необычного, но затем просто пожал плечами.
— Если вдруг понадобится ещё, ты знаешь, где меня найти.
Рафаэль кивнул, развернулся и ушёл. В кармане у него остались два флоринга — его первый настоящий заработок. Небольшая сумма, но вскоре он планировал её удвоить теми же методами.
Он вновь отправился к Жерому, снова взял товар в долг и снова продал его с прибылью. В этот раз всё прошло проще: он уже знал, кому предлагать, где лучше стоять и как преподносить свой товар. Деньги текли скромным, но уверенным потоком.
Обстоятельства всегда вынуждали его держаться осторожно, не привлекая внимания настоятелей, которые могли бы здорово его за это вздернуть. Для этого, он часто менял место своей дислокации и одежду, стараясь не задерживаться на одном месте слишком долго. Он не жадничал, но и не упускал возможностей: если кто-то жаловался, что свечи в соборе дорогие, он тут же предлагал свою цену, чуть ниже официальной, но всё ещё выгодную для себя.
Постепенно он начал расширять ассортимент. Теперь, кроме свечей, он мог достать добротные восковые палочки для письма или благовония, которые прихожане скупали для домашней молитвы. Однако вместе с этим, начиная набирать обороты и пополнять свой кошель монетами, времени на обучение и священнослужения практически не оставалось, вечерами он часто пропадал в переулках, пока его *Братья* склоняли колени перед иконами. Кроме того, местная церковная верхушка была недовольна мелким наглецом, что перетягивал финансовый траффик на себя и те начали усердно разыскивать того, из-за чего, в ближайшее время тот перестал заниматься этим и вернулся обратно в график церкви, желая сбросить с себя подозрения.
У него уже давно была необходимая сумма и он каждый день боролся с желанием сорваться и наконец купить желаемое, но, если он сделает это - он останется совсем без ничего, по этому он подготавливал почву для дальнейшей работы, желая оставить себе как минимум пару мешочков монет, ожидая, что в будущем тот сможет обеспечить Изабель положение в обществе, а так же домом, возможно даже титулом.
Сен-Круа продолжал свое восхождение, стараясь выполнять церковные обязанности и расширяющимся влиянием в городских кварталах. Его капитал вращался в десятках рук, перетекая из одной сделки в другую, неспешно обогачивая его. Он научился угадывать нужды людей задолго до того, как они их осознавали: купцы страдали от нехватки оборотных средств, ремесленники искали, где взять деньги на закупку материалов, а дворяне, привыкшие к роскоши, порой оказывались в безвыходных ситуациях, когда требовалось покрыть карточный долг или срочно выкупить фамильное кольцо из заклада. Рафаэль был тем, кто мог решить их проблемы — за щедрую плату. Он больше не ходил по рынкам с товарами в руках, но его деньги были в обороте в лавках, на складах, в карманах зажиточных ростовщиков, которые теперь сами иногда брали у него в долг. Он превратился в невидимую силу, присутствующую в экономическом потоке города, и уже не нуждался в том, чтобы лично вести переговоры — у него появились посредники, верные и обязательные, такие же ловкие, как он сам, такие же голодные до наживы.
Время от времени он встречался с Изабель — короткие, но наполненные встречи, украденные у его стремительного роста вверх, во время которых он вспоминал, ради чего все это затеялось. Он не показывал ей, чем занимается, не рассказывал о том, как деньги множатся в его руках, но каждый раз, когда он смотрел на нее, он ощущал, что все его расчеты, сделки и риски были лишь ступенями на пути к той жизни, которую он хотел ей предложить. В церкви же он все реже ощущал себя своим. Он по-прежнему посещал службы, читал священные тексты, склонял голову перед иконами, но в его душе уже давно всходил другой культ — культ разума, расчета, власти денег.
И дядя знал, чем занимается его племянник, и пусть в своих речах он никогда не произносил ни слова осуждения, пусть не пытался уличить его напрямую, но каждый раз, когда Рафаэль переступал порог его скромного дома, когда садился за старый деревянный стол, где раньше они молились вместе, он чувствовал, как тяжелый взгляд старика прожигает его, как тот, будто пророк, уже знал все, что случилось, уже слышал все лживые слова, сказанные его племянником кому-то ради выгоды, уже видел все сломленные судьбы, которые он сломает в будущем, если продолжит идти по этому пути, и хотя он никогда не произносил ни упрека, это молчание было тяжелее любых обвинений.
АКТ IV - Цена
Ветер, принесший в город обещание весны, скользил по мощеным улицам, заглядывал в оконные проемы, теребил развешенные для просушки ткани, наполняя их зыбким трепетом, словно предчувствием перемен. В этот день Рафаэль де Сен-Круа, скромный на вид, но исполненный в дерзости молодой человек, вступал в игру, ставка в которой была выше, чем когда-либо прежде. Это не был случайный шаг или безрассудное увлечение богатством – за этим стояли месяцы расчетов, поисков, упрямого изучения дел и слабостей тех, кто мог стать его добычей. Он ждал, высматривал, оттачивал свои приемы, и вот теперь звезды сошлись так, что он мог рискнуть, бросить вызов, от которого зависят не только деньги, но и сам статус, будущее, право называться кем-то большим, чем вчерашний юноша с мечтами о колечке для любимой.
Рафаэль заимел дело с одним из слуг местного графа. Он имел дело с человеком, с властными манерами и взглядом, в котором угадывалась затаенная жажда крови, был опытным игроком в этой сфере – таким, кто не привык к поражениям, ибо его покровитель следил за своими слугами, награждал победителей и сурово карал тех, кто ослабил хватку. Он рассчитывал, что юнец, что явился к нему с предложением, окажется легкой добычей – недалеким спекулянтом, которого можно выжать досуха, отобрать все и оставить ни с чем, может быть, даже поставить на колени в просящем жесте, ведь что может быть слаще, чем сломленная гордость? Но Рафаэль не был из тех, кто склоняется так легко. Он не суетился, не тараторил, не позволял собеседнику перехватить инициативу. Он говорил ровно, уверенно, предоставляя факты, чертя перед его глазами картину блестящей сделки, где все выглядит таким понятным, безупречно выверенным, что просто невозможно не согласиться.
Он представил слуге графа сделку, которая казалась рискованной, но выгодной. В документах действительно были лазейки – настолько очевидные, что его собеседник видел их с первых минут. Всё выглядело так, будто юный финансист попытался скрыть нюанс, но был недостаточно умен.
И тогда графский приспешник сделал именно то, что Рафаэль от него ожидал: он предложил собственные условия, даже не торгуясь. Он "пошёл навстречу", разрешив юнцу исправить "ошибку" и вложив чуть больше, чем планировал. Это был его стиль – не просто выиграть, а сделать так, чтобы другая сторона считала, что её пощадили. Он думал, что загнал Рафаэля в угол. Но правда была в том, что "лазейка" в документах вела не к прибыли слуги, а к его же убыткам. Та схема, что казалась ему очевидной, на деле работала в пользу юноши – он просто поверил, что её разгадал, и не стал проверять дальше, потеряв бдительность от своей напыщенности и "проницательности".
А потом, когда бумаги были подписаны, когда деньги уже перелились в его руки, он позволил себе легкую улыбку, столь тонкую, что ее можно было бы принять за тень светской вежливости, а можно было бы заметить в ней намек на триумф – слишком поздно, чтобы его остановить.
Он понял, что был обманут, лишь спустя время, когда ловко составленные договоры раскрылись перед ним не как легкая сделка, а как просто схема, хоть и ловко проверенная. Когда тот предлагал свои условия, отстрочить оплату, он не заметил, что некоторые пункты были составлен так, что любая отсрочка автоматически увеличивала сумму долга. Рафаэль встроил туда завуалированные штрафы за задержку, процентные начисления и тонкие формулировки, которые делали сделку невыгодной именно в долгосрочной перспективе.
Сделка оказалась столь изощренной, что попытка ее оспорить грозила графскому слуге скандалом и позором, а может быть, и чем-то худшим, если его хозяин усмотрит в этом недостойную небрежность. Разгадка пришла поздно, но теперь у Рафаэля были деньги – не просто сумма, не просто удачная прибыль, а целое состояние, позволявшее шагнуть вперед, оставить позади мелкие сделки, выстроить репутацию, наконец выбраться из под попечительства своего дяди и зажить вместе со своей дамой сердца.
Прежде всего он думал о ней, о той, ради кого затеял этот риск, ради кого просчитывал пути, боролся с обстоятельствами, выверял шаги, словно полководец, ведущий войско к победе. Он выбрал кольцо долго, придирчиво, с той жадной бережливостью, что свойственна людям, зарабатывавшим каждый сумму пригоршнями собственного пота и крови. Он не хотел, чтобы оно было просто красивым – оно должно было говорить за него, быть символом, весомым обещанием, тем, что скрепляет узы судеб. Золотая оправа с темно-красным камнем, отливающим при свете свечей жаром пламени – такое кольцо должно было стать знаком того, что теперь он может дать ей все. Он держал его в ладони, ощущая его гладкость, его холод, который скоро согреется ее прикосновением, и в груди разливалось нечто близкое к восторгу, к предвкушению момента, когда он вложит его в ее руку.
Но этот момент не наступил.
Ему сказали не сразу, сначала были взгляды, уклончивые, осторожные, словно боялись ранить, словно не знали, как говорить с тем, кто еще не понял, что надежды больше нет. Затем – слова, несущие в себе холод, сильнее мартовского ветра, обнажающие правду, о которой он не мог знать, не мог предугадать, не мог предотвратить. Ее убили. Он не сразу понял слова, не сразу поверил в них. Мир, который только что был таким четким, таким ясным, рухнул в одно мгновение.
Рафаэль не помнил, сколько времени стоял перед этим домом, глядя в пустоту. Мир сузился до одной точки — крошечного золотого кольца, которое он сжимал в ладони так крепко, что оно больно впилось в кожу. Слуги, шепчущиеся в страхе, родственники, выказывающие подобающую случаю скорбь, — всё это было фоном, безликим и несущественным. В голове звенело.
Потом пришли подробности, обрывки фраз, которые сначала не хотели складываться в осмысленные предложения. Нападение. Поздний вечер. Кровь на белом шёлке. Никто ничего не видел. Может быть, разбойники, а может, нечто хуже. Все говорили одно и то же, но он слышал другое — слышал безразличие. Смерть молодой женщины? Обычная случайность. Никто не собирался искать виновного, никто не собирался разбираться. Кроме него самого.
Следующие дни слились в один. Он задавал вопросы, копался в слухах, заходил в места, куда раньше не ходил. Он был осторожен, но его настойчивость не осталась незамеченной. Город шептался, но никто не говорил прямо. Было что-то, что не укладывалось в его понимание — не просто смерть, не просто разбой. Казалось, кто-то уже давно решил, что эта история должна быть забыта.
Ему намекнули, что лучше оставить всё как есть. Сначала мягко, потом жестче. Он понял: чем глубже он копал, тем больше рисковал. Но страх и осторожность исчезли в тот момент, когда он открыл футляр с кольцом и увидел, как оно сверкает в тусклом свете свечи, бесцельно и глупо. Это должно было быть на её руке. А теперь оно было ничем. Как и он сам.
Город, который ещё вчера был ареной его восхождения, стал чужим, пустым, безликим, словно выцветшая карта. Люди говорили, торговались, плели интриги, но всё это звучало, как глухой шум, не имеющий ни смысла, ни значения. Он не находил слов, не находил гнева, не находил даже слёз — только пустоту, такую глубокую, что, казалось, она разъедает его изнутри, оставляя лишь оболочку, мертвую, но всё ещё двигающуюся по привычке.
Кольцо, которое должно было стать началом новой жизни, теперь было мёртвым грузом в его кармане, бесполезной безделушкой, напоминанием о том, что он ошибся, что он недооценил опасность, что он был слишком уверен в себе, слишком беспечен, слишком глуп. Он пытался убедить себя, что всё случайность, что никто не знал, что никто не мог предвидеть. Но стоило ему остановиться, вслушаться во внутренний голос, как истина становилась очевидной: это не было случайностью.
Он был слишком успешен, слишком ловок, слишком стремителен в своём восхождении, и кто-то решил поставить выскочку на место. Он сорвал куш, обыграл того, кого не следовало бы, переиграл фигуру, которая лишь на первый взгляд казалась обыкновенной, а на деле оказалась всего лишь отражением чьей-то воли. Возможно, он не знал, с кем имел дело. Возможно, если бы он понимал, он бы поступил иначе, но теперь было поздно.
Они не пришли к нему с угрозами, не потребовали вернуть деньги, не попытались принудить его к покорности. Они поступили грубо и точечно. Они ударили туда, где он не ждал, не защищался, не подозревал опасности. Они не тронули его самого — они забрали то, что он любил. Сделали это открыто, нагло, как предупреждение, как напоминание о том, что у него нет власти, нет силы, нет настоящего влияния. Пока.
Пока.
Эта мысль вспыхнула, пронзила его, зацепилась за сознание. Пока он всего лишь игрок, а не хозяин игры, пока он идёт по расставленным дорожкам, а не расставляет их сам, он уязвим. Пока он действует по чужим правилам, он слаб. Пока он чувствует, пока он скорбит, пока он человек — он мишень.
Рафаэль позволил себе горевать ровно столько, сколько нужно, чтобы запомнить этот вкус боли, чтобы выгравировать его на своей душе, чтобы ни один день, ни одна ночь, ни одно будущее мгновение не стерли из его памяти этот раскалённый шип, этот крик, который так и не сорвался с губ. Потом он закрыл дверь своей старой жизни и начал строить новую.
АКТ V - Восход
Город был стар, словно сама земля, на которой он стоял, и его стены помнили голоса тех, кто владел ими раньше, кто покупал, торговал, заключал сделки, терял и обретал состояние, чья кровь, чьи клятвы, чьи слёзы впитались в камни мостовых, а Рафаэль, приезжая сюда без имени, без родословной, без титула, но с жаждой, с тлеющим в груди огнём, понимал, что ему придётся не просто пробиваться, а вписываться, врезаться, вырывать у города его секреты, искать в его извилистых улочках лазейки, следить за теми, кто правит не с трона, а из тени, у кого власть не в крови, а в бумагах, в долгах, в обязательствах, в обещаниях, крепко зажатых в цепких пальцах, и он понял, что в этом мире правит не меч, а слово, не герб, а печать, не сила, а долг, который держит человека крепче кандалов
Он начал с малого, едва заметный, скупая дешёвые бумаги, разыскивая людей, чьи долги были забыты, но не исчезли, чья беспечность стоила им слишком дорого, чьё положение было зыбким, а он, молодой, голодный, наблюдательный, чувствовал, где можно ударить, где можно вклиниться, где можно стать незаменимым, и сначала это были мелкие сделки, копейки, жалкие крохи, но со временем он стал узнавать имена, стал понимать, кого боятся, кого уважают, а кого презирают, и это знание, это тихое, незаметное впитывание городской подноготной, позволяло ему становиться невидимой паутиной, тонкой нитью, связывающей торговцев, банкиров, ростовщиков, он учился у них, но не подражал, перенимал, но не копировал, он был словно губка, жадно вбирающая в себя всё, что может принести пользу, и в какой-то момент он перестал быть просто молодым человеком, ищущим своё место, он стал фигурой, пусть пока незначительной, но уже имеющей свой вес, он стал тем, к кому шли, когда не могли иначе.
Первую крупную сделку он заключил неосознанно, как будто весь его путь до неё был естественным, словно он всегда знал, что это произойдёт, что в один день к нему придёт тот, кто не смотрит на него сверху вниз, кто не считает его мальчишкой, кто действительно нуждается в нём, а не просто использует его любопытство и упорство, и когда этот человек явился — мужчина в дорогом камзоле, с холодным взглядом и пальцами, что механически постукивали по столу, Рафаэль понял, что это его шанс, что именно сейчас он должен не просто слушать, а вести, не просто соглашаться, а диктовать, не просто быть удобным, а быть необходимым, и сделка, которую ему предложили, была грязной, запутанной, в ней были замешаны политики, высокомерие знати, старые распри, но в ней были и деньги, большие деньги, такие, что их нельзя было просто проигнорировать
Когда Рафаэль привык думать, что контролирует ситуацию, что каждая его сделка – это продуманная партия, где он видит на несколько ходов вперед, но мир не играл по его правилам, и каждый раз, когда он считал, что уже вырвался вперед, что уже схватил удачу за хвост, жизнь напоминала ему, что настоящие игроки – это те, кто умеет падать и подниматься снова, первый удар он получил, когда решил вложиться в крупный караван, отправлявшийся через земли, где торговля процветала, где золото текло рекой, и он видел в этом возможность, видел в этом шаг к истинному богатству, но не учел главного – пути, по которым шли его товары, были опасны, и когда дошли вести о том, что караван был разграблен, что от его товара не осталось ничего, он осознал, что сделал ставку на удачу, а удача не поставила на него, он потерял все, что вложил, но больше всего его разъедало то, что он не предугадал этого, что поверил в сказку о легких деньгах, и тогда он дал себе слово, что больше не позволит себе такой ошибки, что будет просчитывать риски, но вскоре судьба ударила снова, когда он ввязался в рынок недвижимости, купил здание, которое обещало стать центром торговли, местом, куда будут стекаться деньги, но уже через несколько месяцев вспыхнул пожар, уничтоживший его вложения в одно мгновение, он смотрел на тлеющие руины и впервые почувствовал, что проигрыш – это не просто потеря средств, это трещина в уверенности, в его ощущении собственного могущества.
Он не сдался, он искал новые пути, искал новые возможности, пока не нашел людей, которые обещали ему сделку, способную вернуть все, что он потерял, но в тот момент, когда деньги уже текли к нему в руки, он понял, что оказался в ловушке, что его использовали, подставили, выставили виновником махинаций, которых он даже не планировал, и внезапно его имя оказалось замарано, а двери, что недавно открывались перед ним с почтением, теперь захлопывались, и он стоял на краю, понимая, что еще одно неверное движение – и он потеряет не только деньги, но и право вновь подняться обратно.
Ему приходилось учится на своих ошибках, падать и вставать вновь, терять людей, которым доверял, потому что доверие в этом мире стоило дороже золота и редко окупалось, но главное, что он понял – это то, что богатство не приходит к тем, кто ждет, оно приходит к тем, кто берет, даже если для этого нужно пройти через огонь, и Рафаэль прошел и взял то, за что тот поплатился потом, кровью и временем.
Он отступил в тень, исчез, стал призраком, пока его враги праздновали его падение, но он не сломался, он смотрел, он ждал, он учился, он искал тех, кто тоже потерял всё, тех, кому нечего было терять, и он строил свою сеть не на деньгах, а на знании, на слабостях, на страхе, он возвращался не с гордо поднятой головой, а с кинжалом, спрятанным за спиной, он приходил к тем, кто думал, что победил его, и напоминал им, что прошлое не забывается, что долги всегда возвращаются.
Годы в городе закалили его, но не тем быстрым, огненным способом, что оставляет лишь пепел былого юношеского пыла, а медленно, методично, точно вода, что точит камень, превращая его в полированную, гладкую поверхность, на которой невозможно найти ни зацепки, ни слабого места, и Рафаэль учился смотреть, наблюдать, делать выводы, понимать людей не по их словам, а по их паузам, не по их жестам, а по тому, чего они избегали, и с каждым годом его присутствие в городе становилось всё более ощутимым, он уже не был тем молодым выскочкой, что ищет свой первый шанс, он был фигурой, с которой приходилось считаться, имя его начало звучать в нужных кругах, его умение решать вопросы вызывало не просто уважение, а осторожность, граничащую со страхом, и в этом страхе он находил особую сладость, ибо именно этот страх удерживал людей от предательства, именно этот страх делал его слова законами, именно этот страх подчёркивал: он больше не тот, кем был когда-то.
Его конторы наконец начали разрастаться, они уже не были крохотными комнатами, скрытыми в тени торговых кварталов, теперь они заполняли здания в самых выгодных местах, на их порогах собирались те, кто нуждался, те, кто хотел жить выше своих возможностей, и он давал им эту иллюзию, скупая не просто их будущее, но и их слабости, их ошибки, их бессонные ночи, и когда кто-то пытался вырваться, он просто напоминал, что однажды протянутая рука за деньгами — это не просьба, а сделка, из которой выхода нет, но сам он не чувствовал ни удовольствия, ни сожаления, потому что город не прощал ни жалости, ни привязанности, и если в начале пути у него ещё оставались сомнения, если раньше он мог остановиться, если раньше в нём была та тень человека, что когда-то мечтал просто сделать свою жизнь лучше, то теперь эта тень была давно погребена, и вместо неё остался только он — расчетливый, безжалостный, умеющий ждать и брать своё. И он собирался отобрать то, что отобрали у него.
Но одно дело — контролировать чужие жизни, а другое — найти того, кто разрушил его собственную, кто отнял у него не просто женщину, но веру в то, что он когда-либо сможет быть чем-то большим, чем просто машиной, высчитывающей прибыль, и это расследование, в отличие от его финансовых махинаций, не приносило ему золота, не давало власти, но он продолжал, шаг за шагом, монету за монетой, скупая слухи, следя за теми, кто мог знать хоть что-то, и чем глубже он погружался, тем яснее становилась картина: её смерть не была случайностью, она была частью чего-то большего.
Цена этого поиска была страшна, ибо каждый шаг вёл его дальше от самого себя, каждый новый ход требовал жертв, и не всегда чужих, порой он оставлял за собой тени тех, кого когда-то называл друзьями, порой он жертвовал теми, кто ещё хранил к нему доверие, но он не мог остановиться, он не мог позволить себе сломаться, не мог позволить себе быть слабым, потому что тогда всё, что он сделал, всё, чем он стал, было бы напрасным, и он делал выборы, один за другим, и каждый из них отнимал у него нечто важное, но давал взамен новое, новые знания, новые пути к цели, новое оружие.
Родители. Он помнил, как давал себе слово, что не забудет их, что будет нести их память в себе, и он сдержал это слово, но не так, как думал в детстве, он не хранил в кармане их старые вещи, не держал на столе портретов, он не вырезал их имён на дереве, как делали романтики, вместо этого он жил так, чтобы их память не угасла, он строил свою жизнь, опираясь на те уроки, что они ему дали, пусть даже мир, в который он шагнул, требовал от него совершенно иных качеств, пусть даже в нём не было места ни доброте, ни мягкости, но он помнил их, он брал из их образов то, что могло помочь ему выжить, он делал их силу своей силой, он делал их мудрость своей стратегией, и в этом, пусть и в извращённой форме, он сохранял их.
Он рос, зная, что разочаровывает отца, зная, что не может соответствовать его ожиданиям, что никогда не станет таким, каким тот хотел его видеть, — честным, прямым, несгибаемым. Его всегда тянуло к играм разума, к хитростям, к обходным путям, и, возможно, в этом была его самая большая вина в глазах родителя. Они все реже разговаривали, отдаляясь с каждым годом, пока их разговоры не сводились лишь к коротким замечаниям и сухим высказываниям о том, что честь не измеряется золотом и что имя — единственное, что у мужчины нельзя отнять, если он сам его не запятнает.
С матерью все было иначе. Она никогда не пыталась изменить его, не пыталась воспитать в нем то, что он не мог в себе найти. Она просто принимала его таким, какой он был, и, возможно, именно поэтому он любил ее сильнее, чем кого-либо. Он помнил, как в детстве прятался в ее объятиях, когда отец сердился, как слушал ее сказки, как подолгу сидел рядом, когда она шила или писала письма, просто наслаждаясь ее присутствием. С возрастом он начал видеть в ней не только мать, но и женщину, которой приходилось жить между двумя мирами — между жесткостью мужа и мягкостью собственного сердца, между тем, что она хотела бы дать сыну, и тем, что от него требовал их дом.
Их разговоры стали редкими, письма приходили все реже. Он знал, что мать переживает, но не возвращался, знал, что отец презирает его выбор, но не искал его прощения. Они не ссорились, просто медленно и неотвратимо становились чужими, пока в один момент он не осознал, что их больше нет, что он не успел сказать чего-то важного, что не успел хотя бы раз дать отцу повод гордиться, что не успел дать матери уверенность в том, что с ним все будет хорошо.
Иногда ему казалось, что он слышит голос отца в своих мыслях, когда принимал трудные решения, когда заставлял себя быть жёстче, чем хотелось бы, а в те редкие моменты, когда он был на грани между прошлым и настоящим, когда алкоголь или усталость размывали границы, он будто чувствовал прикосновение матери, лёгкое, еле заметное, но такое родное, и это не давало ему сломаться, не позволяло окончательно превратиться в бездушного монстра, каким его видели многие.
Он не посещал их могил, потому что не верил, что их память заключена в камне, но он знал, что они живы в нём, в его крови, в его поступках, в его выборе, пусть даже этот выбор вёл его дорогой, о которой они никогда бы не мечтали для него, но он знал — они бы поняли, ведь в конце концов, всё, что он делал, он делал, потому что мир требовал этого.
Когда Рафаэль стал богаче, когда за ним закрепилась репутация человека опасного, когда его имя начали шептать за спинами, а сделки приносили не только золото, но и врагов, тогда дядя перестал молчать, тогда его упреки стали явными, его слова – острыми, и в их голосах появилось то, чего не было прежде – открытая вражда. Старик не жалел его, он говорил с ним так, словно предостерегал, словно знал, что он идет к пропасти, что его путь рано или поздно приведет к падению, но Рафаэль только смеялся, называя его слепым, не понимающим, как устроен мир, не знающим истинной силы, не понимающим, что значит держать судьбу в своих руках.
Но однажды, в один из его визитов, когда он, насмешливо улыбаясь, положил перед дядей мешочек с золотом, когда сказал, что теперь тот может оставить свою нищету, перестать питаться подаянием, обновить храм, который вот-вот развалится, старик посмотрел на него с таким разочарованием, что Рафаэль ощутил странный холод внутри – не страх, не раскаяние, но нечто похожее на растерянность. «Ты думаешь, что купил этот мир, племянник, – сказал он тогда, не притронувшись к деньгам. – Но в мире, где все продается, не остается ничего, что стоило бы сохранить».
Рафаэль ушел тогда в раздражении, не взяв золото обратно, бросив его на грубый деревянный стол, но позже узнал, что дядя отдал его беднякам, не оставив себе ни медяка. Это была их последняя встреча
Он не знал, кем был граф на самом деле, не знал, какая древняя тьма скрывалась под маской благородного господина, он видел лишь очередного аристократа, слишком уверенного в своей неприкосновенности, слишком привыкшего к власти и влиянию, чтобы заметить, как почва медленно ускользает из-под его ног, Рафаэль действовал терпеливо, методично, без излишней суеты, он не шёл напролом, не пытался навязать открытую борьбу, наоборот, его оружием было время, информация и деньги, три вещи, которыми он научился управлять в совершенстве, сначала он скупал земли, медленно, незаметно, маленькими кусочками, выстраивая цепочку сделок так, чтобы никто не заподозрил, что всё это ведёт к одной цели, затем он вмешался в торговые пути, через подставных лиц организовывал перебои в поставках, создавал кризисы, провоцировал волнения среди торговцев и крестьян, а потом приходил с решением, скупал долги, давал займы, но на своих условиях, завязывая вокруг графа паутину зависимости.
Граф, разумеется, не был слеп, он чувствовал перемены, но они происходили не сразу, не резко, а словно крадущийся яд, медленно пропитывали его владения, его связи, его влияние, когда один торговец отказывался от сделки, это ещё не было тревожным звоночком, когда два — тоже, но когда целые караваны задерживались, когда поставщики исчезали, когда один за другим доверенные люди начинали терять позиции, он не мог не заметить, но прекрасно знал о том, кто стоит за всем этим и по этому ничего не предпринимал по этому поводу.
Рафаэль не ждал чуда, он не надеялся, что граф падёт от одного удара, нет, он был слишком стар, слишком хитёр, слишком укоренён в структуре власти, но это не означало, что его нельзя было сделать слабее, можно было подрезать его когти, можно было лишить его слуг, можно было лишить его денег, влияния, покровителей, и когда этот процесс завершался, когда по его мнению, граф становился одиноким хищником в чужом лесу, только тогда Рафаэль вышел на него, он узнал его имя, узнал его дом, узнал его привычки, но даже тогда он не догадывался, кем тот был на самом деле, он думал, что встретится с человеком, пусть жестоким, пусть могущественным, пусть влиятельным, но человеком, и в этом заключалась его ошибка.
АКТ VI - Закат
Он выбрал вечер. Не званый бал, не пиршество в узком кругу, не приём при свечах, где сотни голосов сплетались в вязкую симфонию светского общества, а именно вечер — тихий, наполненный тяжестью уходящего дня, в котором смешались усталость и разочарование . В такой момент, когда человек уязвим, его можно увидеть настоящим, без масок, без искусных улыбок, без панциря, который держит его на плаву в пучине великосветских интриг.
Граф Клод-Ансель де Виллеруа — звучит гордо, весомо, подобно удару церковного колокола в пасмурный день, но теперь этот звон отдавался гулкой пустотой. Рафаэль смотрел на него, не спеша говорить, позволял ему ощущать ту пустоту, что он сам вырезал в его мире. Это была их первая встреча, официальная встреча, когда глаза наконец смотрели прямо в глаза, а не сквозь бумажные свитки договоров, не через посредников, не из теней уличных закоулков, где прятались шпионы.
— Забавно, — голос графа был тягуч, как выдержанное вино, в нём звучала леность, но и настороженность, едва уловимое ощущение угрозы, — ещё недавно ты был одним из тех, кто склонял голову, получая милость сильных мира сего, а теперь ты здесь, прямо передо мной. Должен признать, меня впечатляет твоя настойчивость.
Рафаэль едва склонил голову в знак признательности, но не более, этот жест был выверен, в нём не было подчинения, лишь жалкий намёк на вежливость.
— Я предпочитаю не просить милости, а добиваться своего.
— Добиваться? — губы графа изогнулись в усмешке, в этой усмешке промелькнула ирония, но не презрение, скорее интерес, неуловимый, тонкий,. — И что же ты добился?
— Вы здесь, напротив меня.
Мгновение тишины. Ветер шевельнул тяжёлые занавеси, и в этот короткий миг Рафаэль уловил то, что до сих пор ощущал только интуитивно — граф не был просто человеком. Что-то в его взгляде, в осанке, в движении, в самой атмосфере, что витала вокруг него, словно густой, удушающий аромат, — что-то шептало о старой, древней власти, которая смотрела сквозь века.
— Ты играл в свою игру умело, — граф сделал шаг вперёд, лениво, будто бы в нём не осталось той холодной аристократической отчуждённости, и всё же шаг этот был наполнен какой-то неуловимой силой, — я наблюдал, как ты плёл паутину, разрушал связи, выстраивал свои, двигался в темноте, как ночной хищник. Знаешь, сколько таких, как ты, я встречал за свою жизнь?
— Достаточно, чтобы не удивляться, — Рафаэль знал этот тип людей. Те, кто выше, всегда любят смотреть на тех, кто пытается подняться, словно бы из чистого любопытства, словно бы проверяя — удастся ли им добраться до вершины или же их сломает собственная амбиция.
— О, но ты ошибаешься, — голос графа стал мягче, схожим на проявление отцовской любви — я удивлён, потому что ты всё ещё стоишь. Тебе удалось пройти дальше, чем многим, кто пытался играть в эти игры. И теперь я смотрю на тебя и думаю… быть может, ты достоин большего, чем купаться в деньгах.
Рафаэль не ответил сразу. Ему льстило признание, но он мгновенно осознал то, как ему в уши заливает яд самая проворная змея, которую он встречал и тот даже на мгновение позволил себе забыть о том, что он сделал с ним. Зачем он здесь.
Однако не смотря на все, граф Виллеруа выглядел… не сломленным. Он не был человеком, который потерял всё. В его глазах не отражалась ни ненависть, ни страх. В них была лишь та же насмешливая, лениво-расчётливая заинтересованность, с которой он, как Рафаэль теперь понимал, наблюдал за ним с самого начала.
— Тебе нелегко далось это, не так ли? — голос Гийома был мягким, как у учителя, что подводит ученика к неизбежному выводу. — Все эти годы ты выстраивал каждый ход, запутывал мои сети, перекрывал потоки, разрушал мои связи. Ты растил в себе хищника. И вот ты стоишь здесь. Что дальше?
Рафаэль сжал пальцы, но оружие так и не достал.
— Ты даже не спросишь «за что»? — его голос прозвучал с нажимом, злость рвалась наружу.
Он лишь рассмеялся.
— Ты ведь знаешь, за что, — он чуть склонил голову, изучая Рафаэля с откровенной заинтересованностью, в которой было что-то тревожное. — Мне даже интересно, что тобой движет больше: месть или что-то иное?
— Не верю, — покачал головой Гийом, и в его глазах блеснуло что-то, что не возможно было сразу понять. — Ненависть делает людей глупыми. А ты, Рафаэль, не глуп.
Рафаэль молчал.
— Ты удивил меня, — продолжил Гийом, сделав шаг ближе, и почему-то Рафаэль не двинулся с места, не инстинктивно отступил, не потянулся за кинжалом, хотя всё в его сознании кричало, что он должен. — Вижу ли я в тебе зверя? Да. Вижу ли я в тебе будущего короля? Нет. Но могу ли я ошибаться? — он усмехнулся, и Рафаэль впервые почувствовал что-то похожее на… страх.
— Ты говоришь загадками.
— Ты ищешь прямых ответов, но жизнь не так устроена, Рафаэль, — Гийом чуть склонилголову. — Ты уже живёшь, как один из нас. Ты амбициозен, ты целеустремлён, ты готов пожрать кого угодно ради собственной выгоды. Вопрос лишь в том, готов ли ты к следующему шагу?
Рафаэль сжал кулаки, сдерживая рвущийся из груди гнев, он хотел кричать, хотел вырваться из этой ловушки, в которую сам себя загнал, когда решил прийти сюда и поставить все на карту, но с каждым словом Гийома он ощущал, как под ногами исчезает почва, как рушатся привычные представления о силе и слабости, о человеке и чудовище, и внезапно осознание истины обрушилось на него, тяжелое, как водопад — граф не был человеком, он был чем-то древним и чудовищным, тенью, что веками нависала над этим миром, и в этот миг Рафаэль понял, что пришел сюда не для того, чтобы убить его, а для того, чтобы умереть самому, и когда граф снова заговорил, его голос прозвучал глухо и низко, обволакивая сознание, заполняя каждую мысль, каждое сомнение — ты ведь понимаешь, что я не из тех, кого можно сломить, и не из тех, кто склоняет голову, ты сам искал власть и деньги, думая, что это высшая сила, но это лишь часть того пути, на который ты ступил, и ты хочешь убить меня, чтобы доказать себе свою мощь, но я дам тебе не смерть, я дам тебе вечность.
Гийом сделал шаг вперед, преодолевая ту зыбкую границу тени, и теперь они стояли так близко, что Рафаэль ощутил на себе его холодное дыхание, а потом граф поднял руку и медленно провел пальцами по его щеке, словно проверяя, действительно ли перед ним человек, и в тот же миг, с непостижимой скоростью, его рука сомкнулась на горле Рафаэля, и тот не успел даже вздрогнуть, когда холодные пальцы сжались, не давая ему вдохнуть, мир расплылся перед глазами, и последнее, что он увидел, прежде чем все погасло — это глаза Гийома, темные, бесконечные, полные искреннего любопытства и в равной мере усталости.
Сквозь полупрозрачные слои сознания он ощутил, как холодные губы коснулись его шеи, как что-то острое вонзилось в плоть, и боль пронзила его, как раскаленная игла, но эта боль была невыносимо сладкой, она опалила его нутро, выворачивая сознание наизнанку, и вместе с болью пришло ощущение пустоты, всепоглощающей, опустошающей, как если бы сама душа вытекала из него вместе с кровью, но за болью пришла темнота, и в этой темноте он вдруг услышал голос — тихий, бархатный, напевный
— открой глаза, Рафаэль, смотри на меня, смотри! — и он, повинуясь приказу, разлепил веки и увидел перед собой Виллеруа, в руках которого сиял кубок, полный темной густой жидкости, и голос вновь прошелестел — пей, я понимаю твой голод. И Рафаэль, не чувствуя уже ничего, кроме безумного желания утолить голод, взял кубок и сделал глоток, кровь обожгла его горло и прокатилась по жилам, наполняя силой, что сотрясала его плоть, и когда он оторвал губы от краев кубка, мир показался ему иным — ярче, резче, глубже, а его сир лишь улыбнулся, понимая, что теперь перед ним очень перспективное дитя ночи, новое поколение клана Вентру.
Рафаэль открыл глаза, и мир предстал перед ним новым — не просто ярким, а болезненно четким, как будто пелена спала с его взора, и каждый камень на полу, каждая трещина на стене, каждый отблеск пламени в камине казались живыми, дышащими, насыщенными чем-то незримым, которое он никогда не замечал прежде. Он попытался вдохнул, ожидая, что воздух, холодный и густой, наполнит его грудь, но вместо этого он ощутил лишь странный хрип — он больше не чувствовал ни холода, ни жара, лишь тяжесть вечности, что вползла в его сознание, и не было больше страха, не было ни боли, ни слабости, только странное ощущение пустоты, пронзительной и всепоглощающей. Голод, свернувшийся тугим клубком в животе и рвущийся наружу, и когда его взгляд наткнулся на фигуру графа Клода-Анселя де Виллеруа, стоявшего напротив, опершегося о резное изголовье кресла, Рафаэль ощутил непреодолимое желание броситься на него, вонзить зубы в его шею, утолить этот ужасный голод, но граф лишь поднял руку, останавливая его без единого слова, и его голос, холодный и спокойный, разорвал тишину
— Успокойся, дитя, ты голоден, и это естественно, но не дай зверю управлять тобой, он всегда будет рядом, всегда будет рвать тебя на части, но ты — Вентру, и ты не должен становиться рабом инстинктов, научись управлять своей жаждой, и только тогда ты станешь истинным повелителем.
Рафаэль застыл, подавляя желание броситься, и Клод-Ансель, довольный его сдержанностью, продолжил говорить, и его голос прозвучал благосклонно:
— Ты умер для этого мира, твое имя стерто из памяти людей, твои сделки расторгнуты, твои долги оплачены, но твое имущество, твои земли, твое состояние — теперь принадлежат мне, чтобы никто не заподозрил, что ты еще жив, потому что мертвые не могут владеть богатством. Но не думай, что я забрал это себе из жадности — все это сохранено для тебя, когда ты научишься быть таким, как я, когда сможешь удержать власть в новых руках и подчинить мир своей воле, а пока ты будешь учиться, будешь постигать нашу природу, наши законы, потому что теперь ты принадлежишь вечности, и твоя жажда власти ничто перед жаждой крови, и ты должен научиться обуздывать ее, иначе твой путь завершится раньше, чем ты поймешь, что значит быть Вентру.
Клод-Ансель прошел мимо, мягко касаясь плеча Рафаэля, и тот вздрогнул от холода, что пронизал его насквозь, но этот холод не был физическим, он исходил изнутри, словно сама его сущность окаменела, и Клод-Ансель говорил, не оборачиваясь:
— Теперь твое существование будет иным, ты — часть общества, древнего и сильного, но в то же время жестокого и безжалостного, тебе предстоит научиться выживать среди себе подобных, ибо клан Вентру не прощает слабости, мы — аристократы среди чудовищ, мы — правители среди падших, мы не бежим за добычей, как звери, мы заставляем мир склоняться перед нами, но чтобы обрести эту власть, ты должен подчиниться нашим законам и принять свою природу, ты будешь пить кровь смертных, но не забывай — каждый твой поступок теперь должен быть выверен, ибо каждый шаг может привести к гибели, наши враги сильны и безжалостны, но главный враг — это ты сам, твоя слабость, твоя жажда и твоя гордость, которая может свести тебя в могилу раньше времени.
Рафаэль слушал, и в его сознании вспыхивали картины прошлого — дом, залитый огнем, кричащие люди, рухнувшие статуи и выцветший герб на полу, граф, возвышающийся над ним, словно сама смерть, и он понимал, что больше нет пути назад, что его жизнь закончилась в тот момент, когда холодные пальцы сжали его горло, но что-то новое зашевелилось внутри — мрачное удовлетворение от того, что он выжил, что теперь он стал сильнее, чем когда-либо мог мечтать, и Клод-Ансель, уловив этот оттенок эмоций, оскалился:
— Ты жаждешь доказать мне свою силу, птенец, но помни — власть приходит к тем, кто умеет ждать, кто умеет быть терпеливым, и твоя первая задача — научиться подавлять голод, иначе ты погибнешь от собственной жажды, потому что потерявший контроль Вентру — это обреченный труп, и никто не станет спасать тебя, даже я, ибо слабые нам не нужны.
В следующие дни Рафаэль оставался в особняке графа, прислушиваясь к его наставлениям, изучая законы клана, запоминая каждое слово, каждую интонацию, но в глубине души горела ярость — ярость на Клода-Анселя за то, что тот забрал его имущество, его жизнь, его имя, но еще сильнее была ярость на самого себя за то, что он все еще чувствует себя рабом, зависимым от силы графа, и он решил во что бы то ни стало доказать свою ценность, стать достойным этой власти, стать таким же, как его создатель, а затем — превзойти его и заставить склониться перед собой, потому что в глубине своей души он знал — его амбиции не умерли, они стали еще более жгучими, еще более безжалостными, и в этом новом облике он уже не мечтал о мести, он мечтал о власти, что затмит даже ту, которой обладал Клод-Ансель де Виллеруа, и в этих мыслях он находил странное удовлетворение, ощущая, как его сущность меняется.
Клод-Ансель, не терпя слабости и жалоб, бросил его в новый, проклятый омут без долгих наставлений, словно ожидая, что Рафаэль сам поймет суть своего нового бытия, но от этих намеков и полуфраз в голове только больше путалось, а каждый день приносил новые удары, не телесные, но еще более болезненные, потому что ранили они его гордость и чувство собственного достоинства, и Клод-Ансель, не желая сюсюкаться с тем, кого он сам выбрал, заставлял Рафаэля выполнять поручения, поначалу кажущиеся унизительными, и ни разу не объяснял их смысла, оставляя его терзаться догадками, заставляя снова и снова обжигаться на мелких ошибках, которые только и делали, что укрепляли в нем решимость стать сильнее.
Рафаэль должен был являться в домах других вампиров, передавать сообщения, не задавая вопросов, брать письма и носить их в грязные подвалы, где прятались те, кого Клод-Ансель презирал, и в каждом доме на него смотрели, как на бледную тень, как на пустое место, и он сжимал зубы, не позволяя себе выдать раздражение, потому что знал — любой намек на слабость сделает его мишенью, и порой он чувствовал взгляды тех, кто был старше и сильнее, и среди них были те, кто прямо выражал презрение, обрывая его на полуслове или заставляя ждать по нескольку часов в холодных залах, пока они обсуждали что-то важное в соседних комнатах, но были и другие, те, кто смотрел на него с осторожным интересом, возможно, узнавая в нем ту самую жажду власти, что когда-то горела в их собственных глазах, но никто не спешил помогать или давать советы.
Клод-Ансель не удостаивал его одобрением, он молча принимал отчеты, иногда коротко кивая, но чаще просто отмахиваясь, не проявляя ни малейшего интереса к успехам или неудачам своего потомка, и когда Рафаэль наконец решился задать вопрос, почему он вынужден заниматься такими жалкими поручениями, когда его способности можно использовать куда эффективнее, граф только усмехнулся и ответил
— Ты не заслужил даже уважения, и если хочешь чего-то большего, чем быть посыльным, докажи, что ты можешь подчинять не только людей, не говоря уже про порождений ночи, но и себя.
Эти слова заставили Рафаэля замереть в ярости и унижении, но он не показал своих чувств, понимая, что это и будет слабостью, и, подавив обиду, начал учиться, на этот раз не полагаясь на подсказки или уроки, а выискивая знания младших тварей, слушая разговоры старших вампиров, наблюдая за тем, как они воздействуют на других, как едва заметные жесты заставляют даже самых надменных и высокомерных склонять головы и подчиняться.
Доминирование стало его первым истинным навыком, который он постигал, изматывая себя тренировками, сначала с людьми, пробуя подчинять их волю, заставляя забывать свое присутствие или подчиняться простейшим приказам, и каждый раз, когда удавалось сломить чужую волю, он ощущал странное наслаждение, будто внутри разливалась жидкость, чего-то древнего и мощного, и это ощущение постепенно пробуждало в нем уверенность
Рафаэль решил покорить еще один дар крови, выковывая свою силу через Стойкость, потому что понял — без внутренней твердости он не сможет противостоять не только врагам, но и самому себе, и каждую ночь он упражнялся, учился принимать удары, стоять на ногах, когда его пытались сбить, терпеть боль, чтобы не дрогнуть, и лишь когда почувствовал, что его тело больше не предает его, что его воля закалена, как сталь, он позволил себе выдохнуть.
Когда он пытался проявить себя в присутствии старших, когда он пытался встать наравне с теми, кто обладал властью, его вновь осаживали, подавляли, высмеивали, и даже когда он сжимал волю в кулак и заставлял себя не дрогнуть под их взглядами, в его присутствии царило презрение, как будто все его достижения были пустым звуком, и даже когда он пытался показать свои навыки, доказать, что способен быть подобным им, они не принимали его всерьез, не желали видеть в нем равного, и однажды, когда один из старейших Вентру, барон Люк де Мориньи, заставил его покинуть собрание унизительным жестом, словно отгоняя назойливую муху.
Рафаэль уже не считал годы, что тянулись перед ним без начала и конца, сплетаясь в один бесконечный поток ночей, его жизнь давно утратила тот ясный очерк человеческого существования, что когда-то направлял его амбиции, жажду успеха и тщеславное стремление к власти, теперь каждый закат приносил новую задачу, и он, не раздумывая, принимал ее, потому что не мыслил иной судьбы, не искал иных целей, кроме одной — быть достойным своего сира, быть полезным и незаменимым, и когда граф Клод-Ансель де Виллеруа говорил ему, что нужно разорвать этот договор, уничтожить те бумаги, склонить того купца или заставить того барона признать новый порядок, он кивал, как верный пес, преданный, несгибаемый, не знающий отказа, потому что так требовала его кровь, и он чувствовал, что без признания сира его существование потеряет смысл, а каждый успех приносил странное, почти болезненное наслаждение, словно взгляд Клода-Анселя и его холодное одобрение были важнее всего, что он когда-либо достигал.
Порой он задумывался, глядя на свое отражение в тусклом зеркале, сохранившем отблеск его прежней человечности, и спрашивал себя, не потерял ли он душу в той ночи, когда холодные пальцы сомкнулись на его горле и выпили из него жизнь, заменив ее мраком и жаждой, но эти мысли были эфемерны, как пыль на перилах, их сметал первый же взгляд Клода-Анселя, чей голос завораживал, чей приказ проникал в сознание и становился его собственной мыслью, его единственным устремлением, и Рафаэль покорялся без тени сомнения, потому что узлы крови тянули его к графу, связывали их незримыми нитями, и это рабство он принимал с горькой гордостью, зная, что никто не сможет разделить их, никто не займет его место рядом с сиром, и потому каждый успех становился доказательством его ценности, а каждое поражение — клеймом позора, которого он не мог себе позволить.
Постепенно он вернул часть своего наследия, пользуясь покровительством сира и его связями, и вновь перешли под его руку несколько поместий, одно из которых он сделал своим новым домом, отреставрировав залы и пригласив туда тех, кого мог считать полезными союзниками, и граф, казалось, был доволен его стараниями, одобрял его стремление к восстановлению утраченного могущества, но никогда не позволял расслабиться, напоминая, что самое важное, это сородичи и их лояльность, и Рафаэль подстраивался, выстраивал паутину связей, которые позволяли ему держать контроль, пусть и не полный, но достаточный, чтобы укрепить свое положение в глазах сира, и когда в кругах Вентру начали признавать его как одного из тех, кто достоин внимания, он ощутил странное, пьянящее чувство — уважение начинало просачиваться в его жизнь.
Так прошло несколько десятилетий. Он, как и в старые добрые, манипулировал людьми, заставлял торговцев и банкиров склоняться перед его волей, плел интриги и уничтожал врагов своего сира с хладнокровием, которое когда-то казалось ему недостижимым, и кровь в его жилах кипела от гордости, когда граф признавал его успехи.
Наконец, сир вызвал его и произнес слова:,
— Есть место, которое требует твоего присутствия, место, что скрыто за океаном, недавно открытый остров, где смертные ищут новых путей к обогащению и власти, и туда уже прибыли те, кто может стать угрозой нашим интересам, мне нужно, чтобы ты отправился туда и заложил основу для нашего влияния, чтобы ни один из местных не смог утвердиться без нашего согласия, это задание потребует терпения, хитрости и силы, и я уверен, что ты справишься.
Рафаэль склонил голову в знак согласия.
Последнее редактирование:


















